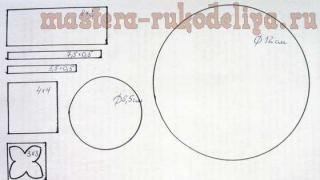Двигаясь прошлый раз, мы обнаружили любопытные вещи. И я хочу теперь, напомнив их слегка, пойти дальше. В качестве напоминания я процитирую две строчки из одного поэта, которые будут одновременно эпиграфом к тому, о чем мы будем говорить.
Вы помните, конечно, что то, что я говорил, характеризует некоторую двоичность, или двуединство нашего ума. С одной стороны, чтобы мы что-то понимали, это предполагает какие-то особые материальные конструкции, особую материальную наглядность в пространстве (например в пространстве театральной сцены), а с другой, предполагает отключенную духовность. И эта двоичность и есть наш эпиграф. Я процитирую слова поэта, в которых каждое слово звучит точно, но неизвестно почему; не потому, что он это подумал, не потому, что он все это знает и понимает, а, видимо, это содержится в природе поэтического творчества; и в особом каком-то состоянии, называемом вдохновением, или особом напряжении всех душевных сил, на поверхность приходят именно те слова, которые нужны, и эти слова могут оказаться предметом очень многочисленных комментариев. Но это будут комментарии не того, что поэт знал и скрыл. Поэт, может быть, этого вовсе и не знал. Но тем не менее не зная знал.
Это строки из стихов одного весьма такого экзотического и вычурного русского поэта, немного сноба, Максимилиана Волошина. Поэт он, конечно, не масштаба Мандельштама, но в поэзии, наверное, тоже нет табеля о рангах, и поэтому любой поэт, даже самый маленький, имеет свое какое-то точное слово, хоть в одном стихотворении или в одной строке сказанное. Эти две строчки звучат так:
Быть вспаханной землей и долго ждать,
Что вот в меня сойдет, во мне распнется слово .
Обратите внимание, что в разных связях каждое из сказанных здесь слов фигурировало в моем рассказе об очень сложных, казалось бы, философских вещах. Например, «быть вспаханной землей» – это очень точно. Я говорил, что мир идей не открывается нам сразу, что нужно прийти в движение, утяжелиться (то есть «быть вспаханной землей»), и – что делать? «Ждать, долго ждать», – говорит Волошин. «В меня сойдет, во мне распнется слово». Опять здесь два слова очень точны. Во-первых, «распнется». Распятие, вы знаете, – это образ в противоположные стороны направленных напряжений, которые держатся вертикалью. Вертикаль человеческого тела, если он (человек) распят, например, держит разрывающие его противоположные силы. И, кстати, здесь и метафора объема содержится в символе креста, то есть метафора объема того, сколько ты можешь охватить раскидом своих рук, когда ты распят.
Мы распяты между . Между чем и чем?
Для нашей темы – мы распяты между нашим телом и совершенно инородным ему духом, или между духом и совершенно инородным ему телом. Но держать это надо вместе. А что распинается? Распинается именно слово. Или ум. Ведь те вещи, которые мы не понимаем, ту какую-то изначальную первичную силу, которая в нас действует, мы склонны называть словом просто потому, что мы сами языковые существа, и то, что в нас рвется наружу, рвется именно к слову, чтобы обрести слово. Это не значит, что это есть то слово, которое в грамматике или в языкознании называется словом. Это не язык в смысле языкознания. Это что-то, что мы, человеческие существа, не можем не называть словом. Поэтому мы и говорим: «В начале было Слово». Это нами сказано. С таким же успехом можно сказать: «В начале было дело». Я ведь говорил, что нужно прийти в движение и тогда мы можем воссоздать на своем сознании какие-то идеи, которые существуют лишь в момент их исполнения, то есть заново рождаясь. С таким же успехом как сказать, что в начале было слово или в начале было дело, можно сказать, что в начале было тело. Даже для науки, кстати говоря, в начале было тело в смысле некоего физического, но идеального инструмента, такого инструмента, который производит только гармоничные сочетания, то есть музыкального инструмента. Вы знаете, что вся теория акустики была в основе того, что потом стало формальной, или абстрактной, математикой, или математической мыслью. Короче говоря, человеческая мысль возникала из особого рода тел. Тел, которые природой не рождаются, но в то же время не являются просто психологическими образами нашего воображения. Скажем, та магическая точка, о которой я говорил, говоря о сцене, не есть образ нашего воображения, а есть реальная материальная конструкция, реальное пространство сцены, такое, которое само как бы обладает чувствительностью, движения в нем сами являются чувствующими движениями, и эти движения очерчивают такое пространство, в котором все происходящее на сцене для нас наглядно и обозримо. Все представлено.
И вот такого рода органы или тела не закреплены. Я уже говорил, что как это тело, так и мысль не есть что-то, что можно иметь и положить в карман, будучи уверенным, что раз ты это имел и положил в карман, то это уже есть и будет. Когда мы говорим о «распнутом» слове, мы говорим о такой материальной композиции (распятие – это материальное состояние), которая исчезает, породив мысль, и существует, только если снова исполняется. Так же и мысль, порожденная такой композицией, существует только, если мы заново в нее впадаем. Я фактически хочу представить вам мысль как материальное действие, поскольку мы должны очень сильно двинуться и двинуться по сильно закрученным линиям, чтобы впасть в ум, в мышление. В мысль.
Весь шум и грохот происходит на сцене потому, что там что-то должно случиться, хотя разыгрывается заранее известный текст, более того, текст, отсылающий самого себя к литературным, культурным ассоциациям в голове зрителя, которому известен не только текст, то есть мы имеем дело со зрителем данной культуры, у которого в голове есть все расшифровки знаков. Если перед нами театр Бали или Японии, где прежде всего господствует знаковая природа изображения, то, конечно, все сидящие в зале знают, что означает палец, задержанный в движении, или нога, приподнятая и оставшаяся приподнятой, что значит такая-то поза тела, – все это известные культурные значения. Тогда возникает вопрос – зачем само представление? Оказывается, нужно представлять, прийти в движение, чтобы там случилось что-то совершенно материальным столкновением движений и частиц движения, чтобы снова вспыхнуло то, что не может дать никакой текст. А чего не может дать текст? Никакой духовный текст не может дать самого себя. Он не может дать себя как текст, если он не родился. Ведь даже стихотворение, которое вы сейчас не читаете, в философском, или метафизическом, смысле не существует. Оно существует только тогда, когда вы его читаете. Можно сказать: стих случается тогда, когда он исполняется. А текст, даже выбитый на камне, сам себя не сообщает, сам себя не может дать, точно так же как и симфония. Известно, исполнение симфонии предполагает ее рождение и она случается именно тогда и только тогда, когда исполняется. И хотя случается именно то, что написал композитор, тем не менее случается только тогда, когда исполняется.
Значит, даже в такого рода пассаже, который я сейчас проделал, обнаруживаем, что мы все время, говоря о мысли и о бытии, имеем дело с чем-то, что есть только в момент, когда мы думаем. Я приведу маленькую аналогию, чтобы вы уловили философский оттенок словосочетания, которое я употребил («в момент, когда …»). Будьте внимательны, а если чего-то не поймете, то не вините меня, потому что я сейчас сам себя максимально устраняю и буду максимально прост, но простота приводит к таким вещам, которые в принципе трудно понять, поскольку они сами о себе текстом сказать не могут, а должны родиться в вас. То есть относительно того, что вы сейчас должны понять, действуют те же самые законы, о которых я говорил абстрактно, которые приводил, когда говорил о мысли.
Есть два философа в истории философии, у которых очень сознательно и настойчиво на уровне языка употребляется оборот «теперь, когда ». Это Декарт и Кант. Я беру пример из Канта, который хорошо иллюстрирует (если это уловить) неделимую содержимость всего обстояния дела, или всей мысли, в момент, когда .
Скажем, человек лжет. На это есть причины: дурно воспитан, плохие родители, какое-то дурное генетическое наследие, дурное воспитание в семье. Второй шаг – среда такая, что если в ней не соврешь, не выживешь. Среда вынуждает. В русской культуре очень распространено выражение «среда заела». И люди всю жизнь жалуются на то, что среда заела, считая себя очень хорошими и замечательными. Кстати говоря, по этой же причине самым неприемлемым и непривившимся на российской почве европейским философом является Кант. Вообще в русской философии и в русской культуре все время было какое-то отталкивание Канта. В действительности они отталкивали то, что они воспринимали как моральный ригоризм Канта. И он казался им каким-то холодным, навевающим ужас чудовищем. У Александра Блока есть одно стихотворение, где какой-то скрюченный старичок (а это именно Кант) сидит за ширмочкой и сам боится, и на всех других ужас наводит. Не Кант, а Кантище. В примере, который я приведу, вы поймете, почему это так (это одновременно какой-то эмпирический пример из истории культуры, а с другой стороны, я надеюсь, вы поймете сам способ философского мышления). Но вернемся к нашему примеру.
Я сказал «человек солгал». Солгал из-за воспитания, или это было выгодно, или из страха, чтобы избежать опасности. Тем самым поскольку свободному человеку (а человек по определению свободен) вменяемы его поступки, то вменяемость, или ответственность, мы здесь должны делить: часть вины приходится на генетику, другая часть вины приходится на семью и воспитание в семье, третья часть вины приходится на среду, четвертая часть вины приходится на страх, вызванный опасностью, и так далее. Можно ведь так описать, и ничего, казалось бы, страшного в этом описании нет, так как такие психологические истории сплошь и рядом с людьми случаются. Но описывать так – это значит не мыслить о том, о чем мыслишь. Мыслить мы начинаем лишь в одном случае, а именно – Кант говорит: все это так, плохие родители, опасная среда, дурные влияния и прочее, но в момент, когда он лжет, лжет именно он, и это акт абсолютный, неделимый и полностью всей своей ответственностью принадлежащий ему в момент, когда . Этот странный оборот «в момент, когда » систематически встречается. Даже я употреблял его в другой связи: «Но тогда, когда мы действительно мыслим, мы не можем не знать, что нечто именно так, а не иначе». Я на него специально как на оборот не обращал внимания, а сейчас обращаю.
Значит, повторяю: в момент, когда , то есть когда совершается акт, движимый мыслью, в момент, когда – и лгу именно я. И семья и генетика здесь ни при чем, все предшествующие обстоятельства и среда здесь ни при чем. Конечно, русскую душу такая серьезность и жесткость могла только пугать. Это сам по себе, конечно, страшный момент, когда . Устоять перед ним очень трудно. В этот момент, когда , который является как бы некоторым мгновением, или я могу назвать его моментумом (физики говорят «моментум движения», имея в виду, что можно поделить движение на составные части в пространстве и времени и что есть нечто, называемое «моментумом движения»), в действии этого мига, или моментума, мы имеем дело со странной формой проявления вечности. Вот вечность к нам заглянула как раз в это окошечко мига. И это очень странная вечность, которая только в момент, когда и которая не во времени. То есть во времени нет вечности. Когда философы говорят слово «вечность», они не имеют в виду существование каких-то предметов, вещей, которые во времени были бы вечными и неизменными. Это наше мышление, в данном случае употребляя термин «вечность», идет по вертикали к горизонтали нашего взгляда, который во времени. В горизонтали нашего взгляда мы ожидаем вечных и неизменных вещей, но их там не может быть. Время все меняет, время все уносит.
В критике философии со стороны неграмотных людей очень часто встречаются такого рода обороты, где говорится, что философы якобы говорят о каких-то вечных и неизменных объектах, где-то пребывающих, неменяющихся. Скажем, в марксистской традиции по этому поводу был сочинен термин «метафизика», не совпадающий с термином «метафизика» в традиционном смысле слова. В традиционном смысле слова метафизика – это первофилософия, то есть учение о бытии. И поскольку учение о бытии строится в понятиях, которые обращаются к чему-то невидимому, наглядно непредставимому, постольку метафизика называется метафизикой, то есть тем, что за физикой. Метафизика – это то, что за физикой. А в марксистской традиции слово «метафизика» приобрело значение учения о вечных и неизменных формах и вещах. И когда встречаем там термин «метафизическое» в отличие от «диалектического», то имеется в виду именно это. Но этот смысл не собственно философский, и я к нему обращаться не буду. Если у меня будет встречаться слово «метафизика» в связи с тем, о чем мы будем говорить, то я буду употреблять только истинный смысл этого слова, традиционный, какой всегда употреблялся, с тех пор как есть философия. Само же слово «метафизика» идет случайным образом от Аристотеля, который обозначил «Метафизикой» свое сочинение, где речь шла о чем-то, что находилось за рамками физики. И поэтому то, что идет после физики, или находится за рамками физики, в учебных целях стало называться метафизикой.
Вернемся к сути дела. Знаком этой вечности (в смысле «в момент, когда ») является момент, когда впал в ум, когда случилось то событие, которое театральное представление пыталось организовать. Театральное представление есть машина, организующая сплетение обстоятельств таким образом, чтобы их интенсивная динамика смогла бы породить событие, которое нельзя прочитать в тексте и в которое я, слушатель или зритель, смог бы впасть, чтобы меня туда толкнула некая физическая или квазифизическая динамика. То, что произошло, произошло в терминах вечности. Этого не было, никогда не будет (я ведь сказал, что исчезнет), потому что есть всегда и везде. Повторяю, я сейчас почти буквально цитирую Парменида с «округлением» этих слов, но смысл передаю буквально, в его обороте. Вслушайтесь, как человек говорит и можно ли так говорить, а я доказываю, что можно и что именно так нужно говорить, чтобы выразить то, что мы все испытываем, не можем не испытывать (особенно в театре).
Что-то, чего не было и никогда не будет, потому что есть только сейчас и всегда, то есть всегда тогда, когда . Как вертикаль – приходит, уходит. Она сама-то не приходит, не уходит, она где-то, это мы, конечно, приходим и уходим. Она проглядывает в окошечко, и (я хочу подчеркнуть) это относится к тем материальным организациям, к тем органам, которые внутренне присущи самому духу. Это магическая точка, о которой говорил Бергман, в построении сцены – пространственное расположение. Оно тоже принадлежит вечности. Почему? Потому что оно свершилось в этом моментуме, то есть в момент, когда , и всегда будет свершаться тогда, когда : когда снова будет пониматься это, когда снова я буду впадать в эту мысль, снова будет это свершаться. Просто оно не будет пребывать как вещь в потоке времени. В потоке времени нет вечных вещей.
Сейчас я с другой стороны поясню это. Вот что-то сбылось, магическая точка продействовала, и зритель впал в состояние ума, или, выражаясь иначе, в нем возникло состояние, иное по отношению к его нормальной психике. Когда это свершилось, то это вечно и в том смысле, что этого нельзя отменить и этого нельзя изменить. Поэтому можно сказать так – в момент, когда , то есть если я думаю, то в той мере, в какой я действительно думаю, и тогда, когда я думаю, я не могу не знать, что нечто обстоит именно таким образом. Я задаю вопрос: «Можно ли это изменить?» Есть ли в мире какая-то сила, которая могла бы эту мысль отменить или изменить? Вот вы что-то думаете. Вы можете не поступать так, как вы думаете. Вы можете не выразить свою мысль, которую думаете, или можете выразить ее ложно, совсем не так, как вы думаете, но вы не можете не думать то, что вы думаете.
Я не случайно в предшествующем рассуждении постепенно пользовался метафорой тяжелой точки, – живой точки, но тяжелой, утяжеленной; я бы назвал бы ее срединой вещества. Мы настолько тяжелы, что – где-то в самой середине вещества. Данте в такого рода случаях говорил о точке, где гнет всех сил сошелся. Подумайте, можно ли мне не думать в такого рода ситуации? Не вообще не думать что-то (ведь всякие мысли приходят нам в голову), но вот в той ситуации, которую я описываю, можно ли заставить меня не думать то, что я думаю? Можно заставить не делать, можно заставить лгать, то есть ложно выражать свою мысль или не выражать ее. Но нельзя заставить не думать или изменить внешней силой то, что я думаю. Так и эти материальные органы, образы (скажем, магическая точка сцены) есть определенная наглядность. Ее нельзя изменить, сделать иной. И нет такой силы в мире, которая могла бы это восполнить или отменить. Значит, у нас по-прежнему здесь обе стороны нашего распятия, «распнутого» слова. Два конца, разные, которые порождают своей разностью между собой напряжение; и только это напряжение и посылает вперед стрелу нашей мысли.
Значит ни того отменить нельзя, ни другого отменить нельзя. И это есть то, что мы с собой привносим. Чтобы на нас не действовали чуждые силы, которые нами играли бы, нам нужно лишь суметь себя увидеть лицом к лицу. И этого видения мыслью самой себя – вот этого – никто, никакая сила в мире не может изменить.
Есть такая байка в истории философии, которую очень часто рассказывают как забавную, пожимая плечами, в лучшем случае прощая философу его причуду, некоторую дань религиозности, дань не слишком обязательную, связанную со временем, с характером философа, его темпераментом, его личной набожностью. Я имею в виду известную фразу Декарта о том, что Бог не обманщик.
Вспомните, что я рисовал ситуацию существ Пуанкаре, которые не сами мыслят, а ведомы иными силами. Ведь я показывал, что они измеряют пространство и оно оказывается у них бесконечным, а итог этот является результатом того, что какая-то сила униформным образом изменяет саму меру измерения. А потом я сказал, что человек в отличие от этих существ в опыт вносит самого себя и способен извлекать самого себя из опыта, в который он себя внес.
И только что я сказал то же самое. То, что нас отгораживает от действия некоторых униформных, универсальных сил, которые единообразно искажали бы нам картину, и мы за продукт своего мышления (или своей деятельности измерения) принимали бы действия этих невидимых нами сил, то есть были бы марионетками (внутри нас действовало бы что-то другое, а мы, как марионетки, сотрясались бы по мере этих действий), изменить нельзя (у человека, оказывается, есть ядро, о котором я только что говорил). Никто не может заставить тебя не думать то, что ты думаешь. И изменить этого не может. Про это и слова Декарта о том, что Бог не обманщик.
Другая гипотеза как гипотеза универсальных сил, которые невидимым образом действовали бы и поставляли ли бы нам свои действия под видом продуктов нашего собственного мышления, называлась злым дьяволом. Так вот, Бог не злой дьявол, Бог не обманщик, Бог правдив. Правдивость в декартовском, конечно, тексте (то же слово «правдивость» может фигурировать и в специфически религиозном переживании, там у этой мысли будут другие обертоны и другие применения, а я говорю о философии) означает описание этого состояния.
Я немного отвлекаюсь от темы, но это позволит вам думать дальше. Я пока помечу то, к чему я веду: человек есть существо, которое в мир вносит как бы свой способ экранирования себя от некоторых невидимых сил, которые превращали бы его в марионетку.
К концу жизни Декарта с ним встретился молодой теолог Бурман. Встреча проходила в Голландии, потому что Декарт не жил во Франции, а все время перемещался в других странах, прежде всего в Голландии (и перед смертью только в Голландии), и был странным путешественником, который не описывал свои путешествия, то есть путешественником, у которого нет впечатлений путешествия. Явно, что путешествия для него были просто способом жить в таком мире, в таком окружении, с которым у него не было никакой внутренней связи, той связи, что независимо от его сознания могла бы своим действием в нем что-то порождать, а он об этом не знал бы. Он как бы философски моделировал свою собственную жизнь. Он предпочитал, например, жить среди голландцев, не зная языка, чтобы рассматривать их просто как натуральный пейзаж. Пейзаж – деревья, травка, коровы, но вместо коров люди ходят и говорят на каком-то языке, как птицы, переговариваются друг с другом, а ты ничего не понимаешь. Перед тобой естественная последовательность каких-то действий, не имеющая никакой осмысленной иерархии, так как если бы ты понимал слова, то была бы иерархия. (Телега тогда имела бы колесо, спицы. Но представьте себе: ты не знаешь, что такое телега и смотришь – перед тобой просто вращающийся круг, и у тебя нет никакой иерархии, и ты смотришь в таком первозданном виде на дело). Декарт хотел иметь первозданный взгляд и хотел все источники своих состояний иметь только в самом себе, а не в том, что порождал бы спонтанно сам язык. То есть если бы он знал язык, то этот язык спонтанно порождал бы в нем какие-то значения и смыслы.
Бурман беседовал с Декартом с определенной целью – получить живьем от автора, учителя толкование и интерпретации уже написанных и изданных Декартом сочинений. Существуют вопросы Бурмана почти что по каждому философскому сочинению Декарта и ответы Декарта.
В одном месте, примерно к концу беседы, Бурман задает ему такой вопрос (вслушайтесь в него): «Мог ли или может ли Бог создать ненавидящее его существо?». Он, разумеется, исходил из религиозной точки зрения, где всякая тварь есть тварь Божья, люди и все есть создания Божии, и тогда мог ли Бог создать существо (скажем, человека), которое бы ненавидело Бога.
Как вы думаете, что ответил Декарт?
Он не стал ссылаться ни на какое содержание, на что склонны были бы ссылаться мы: мы сказали бы, что Богу несвойственно это делать; или что это было бы противоречием в терминах, потому что, если бы Бог, который творит добро, создавал бы злого человека, то тем самым он создавал бы зло; потому злой человек делал бы зло, а первое свойство злого человека – это ненавидеть Бога, а тот, кто ненавидит Бога, совершает еще другое зло… И так далее и так далее. И вот загорелась бы дискуссия, которая, наверное, никогда не кончилась бы, тем более что нам не дано знать, что может и чего не может Бог.
Декарт ответил чисто философски: «Теперь уже не может». То есть если есть мир такой, что внутри этого мира уже есть существо, способное на правдивость, тот, чью мысль нельзя изменить и заставить его не думать то, что он думает (а мысль эта бесконечна и она предполагает Бога), то теперь мир таков, каким его уже сделал Бог, и другого сделать нельзя. Теперь уже и Бог его не может изменить. Вот аргумент. Более того, он ведь стоит в контексте наших рассуждений о динамии, о впадении в ум, о том, что ум нам не придан и так далее. Ответ Декарта связан еще и с глубоко спрятанной (в данном тексте не выступающей) тезой у Декарта, которая гласит (кстати она совпадает с одной мыслью у Августина)…
…только помните, что я до этого говорил – надо прийти в движение, и что лишь в движении сцепляются какие-то вещи так, что нам может открыться идея, мы можем впасть в состояние ума и так далее, то есть такие состояния, которые действием естественных механизмов в нас не вызываются, не рождаются. Мы не можем быть естественным образом добрыми, мы не можем естественным образом быть святыми, мы не можем естественным образом быть умными.
Допустим, Бог устраивал мир сообразно каким-то законам. Для Декарта такое понимание неприемлемо по одной простой причине: оно для него есть нарушение строгости правдивого мышления, а именно: если бы это было так, то есть если Бог устраивает что-то, ориентируясь на что-то другое (скажем, создает какую-то вещь, а в правой руке он держит план того, какой она должна быть), то тем самым в Боге есть необходимость, он подчиняется какой-то необходимости. Если он подчиняется какой-то необходимости, он подчиняется чему-то, что вне него. А что вне Бога? Это противоречие в терминах. В действительности, говорит Декарт, Бог делает не потому, что что-то правильно или истинно, а истинно то, что сделано Богом. Так сделал или так пошел, и это стало истиной, которая необратима и неотменяема. Вот с этим связан его ответ на то, может ли Бог создать злое существо, ненавидящее его. «Теперь уже не может». В мире, в котором человек способен сказать «я мыслю, я существую», – в этом мире может быть приостановлено действие униформно обманывающих сил, тех, которые без нас нами водили бы и действие которых внутри нас мы бы принимали за продукты собственного рассуждения и собственного размышления.
Мы часто пользуемся выражением «самому мыслить» или «собственный ум», не вдумываемся в него, и напрасно, потому что это богатое выражение и, если вдуматься, оно содержит в себе какой-то свет, который освещает нам проблему определения мышления. Слово «просвещение» употребляется в таком обороте: «эпоха Просвещения», «век Просвещения». Что такое просвещение? К сожалению, под просвещением часто понимают наличие некоторой суммы знаний и распространение этой суммы знаний среди максимального числа людей. То есть сумма каких-то позитивных, надежных знаний просвещает людей, когда она распространяется среди них. В социалистической мысли именно такое понимание просвещения закрепилось.
В действительности, просвещение означает нечто совсем другое (именно то слово, которое фигурирует в словосочетании «век Просвещения» или «век Разума», «эпоха Просвещения»). Просвещение, как Кант уже предупреждал, – это чисто негативное понятие, оно не имеет в виду никакой суммы знаний. И, действительно, для философа было бы странно говорить о сумме знаний, потому что, как вы знаете, философия есть знающее незнание. Знать о том, что ты не знаешь, и есть философия. Это понятие негативное в том смысле, что мыслить можно только самому. И тем самым просвещение означает, как выражался тот же Кант, век совершеннолетия человечества. А что такое совершеннолетие? Это тогда, когда мы не нуждаемся в помочах. Не ходим на помочах и не нуждаемся в том, чтобы нами управлял какой-нибудь внешний авторитет. Достичь состояния, когда ты можешь быть не управляем внешним авторитетом, есть просвещение, или взрослость, понимаемая с точки зрения ума. И в контексте просвещения, понимаемого таким образом, употребляется словосочетание «пользоваться собственным умом».
Давайте теперь подумаем, что это значит – пользоваться собственным умом? Что здесь содержится? Значит, мы должны мыслить, пользуясь собственным умом. По меньшей мере это означает, что мышлением не называется кусок рассуждения, в котором встречаются мыслеподобные образования. Я могу, скажем, употреблять суждения, термины, понятия, умозаключения – все это называют мышлением. Причем тот человек, который, солгав, ссылается на то, что он боялся, он ведь, говоря об этом, пользуется как будто бы мышлением. Он мыслит – он приводит какие-то соображения, доводы, аргументы. Но тогда словосочетание «собственный ум» исключает, чтобы мы считали это мышлением. Следовательно все это – мыслеподобие, это не мышление, хотя там есть все элементы мышления. Есть доводы, аргументы, умозаключения, основания. Ведь лгун обосновывает свою ложь. Я вообще многое могу обосновать. Я могу ограбить человека и обосновать, почему я его ограбил. И в этом обосновании будут фигурировать какие-то части нашего сознания, похожие на акты мысли. Но все-таки почему-то сказано «пользуйся собственным умом». Тогда зададим себе вопрос иначе. Можно ли мыслить, не пользуясь собственным умом? Является ли мышлением то, когда не пользуются собственным умом? Все те случаи, которые я перечислил, они как раз и характеризуются тем, что человек не пользуется собственным умом. А что здесь собственный ум? Собственный ум есть та тяжелая точка, которую нельзя изменить и которую нельзя заставить быть иной, чем она есть в тот момент, когда . Это – мышление. Это и есть собственный ум. Не только собственный ум, но еще и ум, предстающий собственнолично, своим собственным лицом, не посланниками, не посредниками, не гонцами, а собственнолично. Сам. Тогда обратим внимание на то, что странным образом мы ведь собственным умом человека (Декарт называл это естественным светом) называем нечто, что не мы сами создали. Значит, у человеческого существа в отличие от существ Пуанкаре есть собственность, и собственность такая, которую он не сам создал, а которая ему дана в дар. Этот дар, достояние, мы называем талантом, который есть у всех. То есть, во-первых, никто собственного ума не создавал, во-вторых, у всех есть собственный ум, в-третьих, не все пользуются собственным умом, как выражались раньше, зарывают свой талант в землю.
Конечно же, нужно обладать талантом увидеть то, что увидел Декарт, когда сказал: «Теперь – не может». Или когда Кант говорил регулярно, что в момент, когда человек лжет, оценка этого как лжи абсолютна, не соотносима ни с какими обстоятельствами и ответственность неделимым образом вменяема тому, кто лжет, вменяема в момент тогда, когда .
И это – философский талант, поскольку это разыгралось в терминах философии. Но он же, этот талант, может быть совершенно другим. Явно, конечно, у Волошина есть талант, когда он вдруг, совершенно ничего не понимая (если у него спросить, не объяснил бы), пишет: «Быть вспаханной землей, и долго ждать, что вот в меня сойдет, во мне распнется слово», точно ощутив ситуацию самого рождения слова. Оно рождается только во «вспаханной земле» и рождается «распнутое». И нужно ждать. То есть это приходит как дар, и можно быть только достойным его или недостойным.
Значит, я сказал: достояние, дар, талант, и вместо слова «талант» я могу теперь употребить другое слово, совершенно эквивалентное, но тянущее за собой совершенно другую цепь ассоциаций, проблем, открывающее совсем другой путь, по которому может пойти ваше размышление.
Это слово – «личность». Это и есть тяжелая точка, то, что мы в человеке называем личностью, или безусловным достоинством личности, которое имеет бесконечную ценность. Тем самым, конечно, оно не является никакой ценностью, потому что обозначить нечто как бесконечно ценное – значит отказаться оценивать это, соотносить с какими-либо антропологическими, практическими или другими потребностями человека или культуры. Когда мы берем не соотносительно, мы говорим – «бесконечно ценно».
Что бесконечно ценно? Как нам это тяжелое ядро, о котором я говорил, переиначить в терминах личности? Вспомните, как я говорил, что ничего нельзя предположить, ничего нельзя вымыслить, нельзя себе представить, нельзя получить умственным действием. Все эти «нельзя» означают: нельзя восполнить или заменить некоторый акт, который может быть только сам и единичным образом в отдельном человеке, который в силу этого акта есть личность, опыт которой (поскольку его нельзя восполнить никаким самым мощным умом, нельзя изменить, нельзя отменить) имеет незаменимую, или бесконечную, ценность. Он (опыт) есть в моральной сфере то, что мы называем достоинством личности. Я сказал, что лицо, или достоинство личности, есть бесконечно ценный опыт. Почему? Да потому что мы заранее никогда, ни из какой возможной точки не можем увидеть то, что там может произойти. А если произошло, мы не можем отменить, не можем заменить, и только сама личность может это дальше развивать. В этом смысле она одна, в одиночестве, перед миром, потому что в силу тех законов, о которых я говорил, вместо нее или в помощь ей, коллегиально с нею, никто и ничто не может работать. Более того, эта точка тем более важна, что личность – это человек, который не может сослаться на то, что что-то со временем сделается – я сейчас здесь подожду, а со временем это сделается (изменятся обстоятельства, кто-то что-то сделает, и это сделается со временем). Тогда он перестает быть личностью, тогда исчезает эта тяжелая точка, а вместе с ней исчезает и то, что могло случиться в мире. Я сказал бы так: когда случается удар какого-то впечатления, в ответ на который человек осуществляет этот незаместимый акт, в этом миге весь мир как бы находится в сдвиге и склонении, но склонение проходит через меня в каждой такой тяжелой точке. И если я не осуществляю личностный акт, то через меня же этот мир уйдет в небытие. И в нем никогда не будет чего-то, что могло бы быть, и это невозместимо никаким социальным сотрудничеством, или, проще, невозместимо никаким временем. Я снова здесь ввожу (пока намеком) тему времени, которая частично у меня постоянно фигурирует, потом мне специально и отдельно нужно будет о ней говорить.
Но вернемся снова, завоевав еще один срез для этой нашей тяжелой точки, именно личностный срез, – вернемся снова к сути дела, то есть к мысли, к мышлению. Дело в том, что, когда мы имеем дело с мыслью, пока весьма условно обозначенной нами словами «собственный ум», мы должны понимать, что мы имеем дело с чем-то, что есть само или его нет; но если есть, есть само, и это невербально. Я говорю о некоем невербальном акте, который мы сами можем описывать, но это будет не то, что он сам. Например, если я сейчас опишу это как мышление, это будет вербальное описание того живого акта, который в действительности есть лишь в момент тогда, когда . А мы всегда отождествляем некий невербальный акт с вербальным его описанием. Оно как бы параллельно самому акту. Скажем, в момент, если я действительно помыслил, я не могу не думать, что это именно так, как думаю. Я ведь в такого рода акте отдаю себе отчет (или могу хотеть сообщить его другим) – я создаю вербальную копию этого акта и впредь пользуюсь ею. Но это только вербальная копия. Она не обладает признаком «сам». Например – самому понимать. Я приведу фразу Декарта: «Чтобы знать, что такое мышление и сомнение, нужно самому мыслить и сомневаться». Это не просто психологический или педагогический рецепт, который мы очень часть слышим: сделай что-то сам или думай сам. Нет! Здесь за простыми и обыденными словами скрывается фундаментальное утверждение: или живьем мысль или в ее вербальной копии. Даже самоописание мысли является вербальной копией мысли, а не ею самой. Это такого рода невербальный корень, который лежит не только в основе мышления, но и в основе того, что мы называем личностью. Почему мы личность выделяем как специфический феномен, в том числе в этике и культуре? И если я способен пользоваться собственным умом, то с этим своим умом я нахожусь везде там, где находится предмет, о котором я способен подумать своим собственным умом. Сложная фраза! То есть там – я же!
Фраза не только сложная, она и мистическая. Я сейчас выхожу к тому действительному переживанию, содержащемуся во всяком нашем существенном (или фундаментальном) мышлении, которое, поскольку люди его переживали и поскольку оно не поддается анализу, обозначается как мистическое переживание. Под мистическим переживанием в самом расхожем виде имеют в виду переживание слияния с миром, слияния с другим человеком, с любимой, слияние с Богом; в мистическом переживании человек способен сказать: «Я – Бог», «Я – растение», «Я – тот, кого я люблю» и так далее. У людей, мистически одаренных, наличие такого рода состояний может выливаться в весьма наглядные образы воображения и рождать целые миры, которые потом описываются в антропософии, в мистических философиях. Скажем, Блейк описывал являвшиеся ему (наглядно являвшиеся ему) видения, духи или Сведенборг описывал свои приключения. Стоит только не думать о тех условиях, в которых психика и сознание производят такого рода представления, как мы получаем, казалось бы, чисто мистическую картину, в которой содержатся какие-то якобы содержательные представления о таких вещах, о которых мы не можем знать никаким нормальным образом (да и ненормальным тоже), то есть не можем знать путем мышления. Что происходит на звездах, что происходит в других мирах?
В действительности я сейчас отвлекаюсь от мистической экзальтации, которая есть лишь ответвление того, о чем я хочу сказать, а хочу указать лишь на следующую вещь: то существо, которое обладает собственным умом и может им пользоваться в отличие от существ Пуанкаре (еще можно так отличить человека от существ Пуанкаре – человек есть существо, обладающее собственным умом), тем самым находится еще в одном дополнительном измерении, в котором не находится никакое другое существо – ни животные, ни гипотетические существа Пуакаре. Оно находится в измерении незнаемого. Подумайте над тем, что незнаемое существует только для человека из всех известных нам существ (мы других существ не знаем). Когда я говорил, что нельзя что-то иметь, нельзя иметь мысль и впредь жить, имея ее, а в нее все время нужно впадать заново, то я тем самым сказал фактически, что мысль существует в измерении незнаемого.
Мысль, которая в строках поэта Максимилиана Волошина, – она точная; как выразился бы другой поэт, Эзра Паунд, в ней невидимое определено точно. А ведь сами слова – «невидимое» и «определить его точно» – взаимоисключающие. Казалось бы, мы точно определяем только видимое. Нет, невидимое определено точно. Формирующая идея (или форма) построена настолько точно, что она способна сама рождать то, чего я не вижу и не понимаю заранее, а что могу только увидеть, двигаясь в том, чего я не знаю. Я говорю – нужно прийти в движение. Разумеется, это не любое произвольное хаотическое движение, а нужно прийти в движение в незнаемом, имея точные определения. Бергман, устраивая магическую точку, точно определяет ее, представления не имея о том, как она в действительности действует, и что за силы участвуют в том, чтобы она подействовала, и как все это слагается и координируется. Ничего этого он не знает. Но, может быть, именно потому, что не знает, есть пространство, в котором может случиться мысль, в том числе потому, что мы знаем – из того, что мы знаем, получить больше, чем мы знаем, невозможно. Из знаемого мы никогда не получим ничего нового. А в незнаемом, двигаясь в незнаемое, в невидимое, мы можем получить новое и узнать его как таковое, то есть узнать его как мысль, потому что поле незнаемого очерчено бесконечными потенциями символов, символических вещественных образований. В данном случае, скажем, некая точка, называемая магической в театре, на сцене, есть символ. Но это символ не в смысле нашей рассудочной аналогии с чем-то, например, когда белое для нас является символом невинности, то это аллегория. Речь же идет о живых вещественных образованиях, которые точно очерчивают то, чего очертить, казалось бы, принципиально невозможно, а именно бесконечное.
Имея преднапряженность бесконечности, мы можем узнавать что-то новое. Повторяю, имея преднапряженность бесконечности, то есть поле символов, напряженное потенциями символов (а линии этого поля источаются, исходят из этих потенций), мы располагаем шансом, вероятностью того, что впереди нас родится новая мысль. А это именно рождение, поскольку согласно известному парадоксу, который знали еще древние, из мысли мысль не вытекает. В мысли нужно пребывать усилием энное время. Тогда это означает (и вспомним о странном собственном уме, который не мы создали), что в фундаментальном смысле слова мышление не есть способность человека, а есть способность и состояние такого рода полей, и мы можем «быть в мысли», а не – «мне пришла в голову мысль». Обычно говорят так: мы анализируем предметы, соотнося актами сознания элементы изображения по отдельности с каждым элементом предмета и устанавливая соответствие между ними. Повторяю, мы актом мысли устанавливаем осознанные соотношения между каждым элементом изображения, или описания, и каждым элементом предмета. В действительности познание таким образом не совершается. Более того, именно здесь как раз заключается опасность, или пропасть, дурной бесконечности: это описание может бесконечно детализироваться, так никогда и не доходя до мысли. Скажем, Герман Вейль, в этих случаях говорил, что мы проникаем в действительность (в математическую действительность в данном случае) не сознательным соотнесением каждого элемента картины с соответствующим элементом действительности, а символическими конструкциями. Он имел в виду не символы (например число «π») как знаки, которые пишутся на бумаге, не то, что само число (например двойку) можно рассматривать как символическую запись. Нет, он имел в виду другое. Он имел в виду внесение таких вещей, называемых им символами, которые содержат большее, чем каждый в отдельности элемент картины, и которые не получаются перечислением состава картины, а являются свободным творением человека (или свободой его собственного ума). Потенции таких символов бесконечны. И в каком-то смысле число в математике может считаться метафорой сознания. В каком? А в том смысле, что в нем (то есть числе) в овеществленном виде сознание содержит некую информацию о самом себе, ту, которую оно не может развернуть в последовательность, поскольку это бесконечно, но эффект бесконечности закреплен уже в этой метафоре, которая соединяет непройденные части целого, соединяет разнородные, в единстве своем нами не представимые, разрозненные части. Метафора как соединение несвязного, разнородного. Что такое несвязное, разнородное? Это все то, что не находится в наших связях, уже привычных, связях наших категорий, в связях того, что мы знаем (что мы уже увязали как-то). Двигаясь по этим связям, мы не можем найти новое. А в символах, если мы можем их внести в действительность, уже содержатся ресурсы того, что в нашем мышлении могут возникать сцепления нового. Поле, в котором это происходит, есть поле усилия мысли пребывать самой собой, и это именно усилие, поскольку естественным образом мысль сама по себе не пребывает во времени, а рассеивается. Потому Декарт говорит: «В мысли нужно пребыть некоторое время».
Заключая, можно сказать так: символы есть символы сознания. Сознание – это не знание, это – со-знание, это то, в чем мы знаем нечто другое, не зная того, в чем мы это знаем; это нечто, что сопровождает знание и в чем будет знание и только там будет, а в другом месте не будет, но что (то есть это нечто) при этом мы не знаем. Мы не можем со-знание, то есть частицу «со-» в самом со-знании превратить в объект. И это есть то самое дополнительное измерение незнаемого, невидимого, ибо мы не видим сознания. Мы видим содержание сознания, но мы никогда не видим сознание.
И в этом смысле движение в незнаемом есть движение в измерении сознания, некоторого такого сознания, которое не есть наше эмпирическое сознание, а есть нечто, совмещенное с существованием, с бытием. Если это так и сознание есть то, чего мы не знаем, то оно нечто такое, что есть у нас только тогда, когда , в тот момент, когда оно есть. Оно есть только в деятельности, живьем, подобно тому что мы называем собственным умом.
Ощущение же некой еще только делаемой жизни (но такой, делание которой есть мое присутствие) есть мистическое ощущение, то ощущение, которое реально переживается в мышлении, которое в наших описаниях мы иначе не можем назвать и называем мистическим. Когда человек говорит, что если поймут то, что я понимаю тогда, когда действительно думаю (и не могу думать иначе, чем так, как думаю), то там, где понимают, там есть и я (в том числе в моей любимой, в том числе на Солнце, если на Солнце кто-то это будет совершать). Вот что такое в действительности мистическое переживание. Другими словами, мистическое переживание пользуется потенциалом бесконечности, заключенном в символах. В данном случае то «Я», о котором я говорю, есть тоже символическое образование, и это «Я» везде там, где будут это думать. Поэтому «Я» сейчас здесь и на Сириусе, если на Сириусе, думают это . Поэтому на этой базе возможна мистическая экзальтация, которая выражается известными признаками и которая, естественно, не совпадает со своими исходными точками. А исходная точка – это живое ощущение некоторой непрожитой, еще не сделанной жизни, но сейчас проживаемой, жизни в связи всего живого. Потому что в фундаментальном смысле слова акт жизни … (…)
Мамардашвили М.К.БЕСЕДЫ О МЫШЛЕНИИ
Из курса лекций, прочитанных в 1986 – 1967 гг. в Тбилисском университете.
Эстетикой мышления можно назвать наши беседы в связи с тем, что искусство, как известно, прежде всего – радость, а речь у нас должна идти о радости мышления. По – видимому, не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с особым пронзительно – радостным состоянием человека. Пруст даже как – то заметил, что может быть, критерием истины и таланта в искусстве, в литературе является состояние радости у творца. Состояние творческой радости может быть и у того, кто читает или смотрит. Что это за состояние радости, которое к тому же еще может быть и критерием истины? Можно сказать, что у мышления есть своя эстетика, что мысль безусловно связана с радостью, иногда с единственной радостью человека. Эта радость относится и к мысли, о которой я хочу беседовать с вами, и к мысли, в связи с которой вообще возникает вопрос: "что это значит?", "что это за состояние у человека и зачем оно вообще?".
Иногда или чаще всего нам ничего не остается, кроме того, чтобы получить светлую радость мысли. Можно к ней добавить и другие прилагательные. Например, чаще всего достоинство человека выражается и может выразиться в том, чтобы хотя бы честно мыслить. Мы многое делаем по принуждению, и часто то, что мы делаем, не зависит от нашего героизма или трусости. Но есть одна какая – то точка, в которой мы, вопреки всем силам природы или общества, можем хотя бы думать честно. И я уверен, что каждый из вас, независимо от того, удавалось ли вам быть не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, знает особую какую – то вещь, которую человек испытывает, когда загорается неизвестно откуда пришедшая искра, которую можно назвать Божьей искрой. Существует особое состояние пронзительной, томительной ясности, отрешенности и какой – то ностальгической, острейшей, кручинной или сладко тоскливой ясности. Даже беду в мысли (в том, что я называю мыслью и чего пока мы не знаем), даже эту беду можно воспринять на какой – то звенящей, пронзительной, как ни странно, радостной ноге. Но что может быть радостным в беде? Только то, что ты – мыслишь, г. е. твое сознание твоего сознания. Но можно ли думать, когда тебе больно и испытывать от этого радость? Радоваться можно лишь тому, что в этой боли выступило с пронзительной ясностью. Ты смотришь, опустив руки, и тем не менее никто у тебя не может отнять того, что ты видишь, – если, разумеется, видишь.
Это состояние может испытывать каждый. Во – первых, его трудно разъяснить и объяснить, а во – вторых, оно растворено в других состояниях. Такое состояние может возникать в ситуации неразделенной любви и испытывая его, мы естественно, отождествляем это с любовью, не отделяем одно от другого. Но тем не менее то, о чем я говорю, есть в этом состоянии мысль, а не любовь. Или когда мы с такой же поразительной ясностью может видеть справедливость. Вот, например, мы можем видеть двух сцепившихся врагов, рвущих друг другу глотку и знать, что они братья родные, они же сами этого не знают, они продолжают борьбу, но ТЫ – знаешь, ТЫ – видишь. Выразить этого ты не можешь, так как не можешь свое сознание о том, какова природа действий наблюдаемого человека, навязать другому, если он сам себя не понимает. Он не понимает, что тот, кого он ненавидит, на самом деле его брат. Ты со стороны ясно видишь это положение, а он этого не видит. Трагически на твоих глазах сцепились обстоятельства вражды и ненависти, а ты видишь другой смысл этого с абсолютной ясностью, но недоказуемой. Ни сам себе не можешь доказать, ни этим сцепившимся в борьбе врагам – братьям. И более того, ты не можешь даже им помочь. Но поскольку ты видишь этот другой смысл – их братство, – то в этой способности умственно видеть нота радости все же присутствует. Что бы ни случилось, как бы они друг друга ни терзали, куда бы ни покатился мир, но увиденное знание истинной связи этих людей – их братство и есть то, что ты увидел и это называется мыслью или истиной, – это уже случилось, это необратимо, этого отнять нельзя, это было. И, может быть, именно с такой необратимой исполненностью и связана радость.
Значит радостью может быть такое чувство необратимой исполненности смысла. К этому приложимо слово "эстетика", поскольку последнее обязательно предполагает нечто чувственное. Эстетика неотделима от момента сенсуального, чувственного, даже если это просто слова. Ведь слово имеет свою чувственную материю, оно несет чувственную радость. А краска, цвет? Цвет, хотя и несет смысл, но одновременно радует и наши чувства. А мысль в этом плане находится в очень особом положении. Для разъяснения его необходимо говорить о совпадении.
Существуют и происходят очень странные совпадения. Об этом мне тоже придется говорить, чтобы у вас не было смущения, не возникало бы никакого комплекса неполноценности перед тем, что тема такая высокая, перед высоким делом мышления или сознания, смущения что вы – де ничтожны, а мысль великих мыслителей велика и вам до нее не достать. Пока я условно назову это коинциденцией, т. е. совпадением. Я хочу выразить здесь простую вещь: если вы что – либо помыслили, это существует даже если кто – то другой уже это говорил. Конечно, трудно определить критерием, что такое помысленное в отличие от непомысленного и пока придется остаться на интуитивном уровне. И это будет темным, пока мы не прокрутимся по всем ответвлениям этой темы. Так вот, если что – то помысленно вами – оно ваше, даже если это совпадает с мыслью другого человека, даже если это совпадет с мыслью великого мыслителя.
Прежде чем дальше говорить о совпадении, я должен заметить, что часто приходится задумываться, когда встречаешься с рассуждениями определенного рода. Например, с такими: люди очень любят иерархию – что выше, что ниже. Берут бесконечные проблемы: что выше – художественная истина или научная? Искусство или философия? Философия или наука? Чувства или мысль? и т. п. И сформировалось такое образное представление, что в общем – то самая высшая радость и самое высшее состояние человека – это состояние художественное. И это представление незаметно предполагает, что у художника, артиста, писателя всегда есть какая – то особая привилегия. Мне же всегда казалось, что у художника есть нечто, что помогает ему и этой помощью делает (условно конечно, я не пытаюсь устанавливать иерархию) его работу ниже работы мыслителя. Причина этого кроется в представлении, специфическом ощущении удачи или неудачи труда. Когда поэт пытается выразить какое – либо состояние в слове, даже если ему не удается до конца достичь ясности в том, что он испытывал, у него всегда есть промежуточный слой успеха, приносящий ему удовлетворение. Этот слой есть сама непосредственная чувственная материя стиха. Поэтому, если он не добился до конца по каким – то причинам полного успеха в слое мысли, поскольку стихотворение тоже мысль, он мог быть компенсирован успехом в промежуточных слоях, которые всегда присутствуют. Скажем, какая – либо аллитерация, уникально найденная, может искупить неполный успех в сути дела, т. е. в мысли. А тогда мне то прустовское рассуждение о поэтической радости как высшей радости не представляется верным, так как всегда есть вот этот, так сказать, клапан безопасности, выпускающий излишний пар творческой энергии. Напряжение духа, может быть, оказалось не вполне реализованным, но оно тем не менее принесло удовлетворение тем, что в промежуточном слое чувственной конструкции (а стих обязательно чувственная конструкция) есть успех. И можно хоть чему – то обрадоваться, даже тому, что не есть радость мысли. Следовательно, тем самым я уже отличаю радость мысли от какой – то другой радости, от эстетической радости. Вот в состоянии такого думания мне показалось, что я подумал нечто интересное, но оказалось, что люди уже думали так. В думах об этом я встретил эту же мысль у Евгения Баратынского.
Правда, на мой взгляд, он не совсем законно выделяет среди художников в отличие от живописца, скульптора или музыканта, у которых большую роль играет чувственная материя, именно художника слова и объявляет его мыслителем. Стихотворение у него так и называется, оно обращено к художнику слова. И на Баратынского распространяется то мое возражение, которое было обращено к Прусту. Ведь у слова тоже есть материя, а именно о материи идет речь у Баратынского. Стихотворение звучит так:
Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним, чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.
Возможно вас, как и меня, пронзит это словосочетание:...пред мыслью (тобой), как пред нагим мечом... – но у слова, вопреки Баратынскому, все это еще есть. В случае же мысли никаких прикрас, никакой чувственной материи. Hie rotos, hie saita (здесь радость, здесь прыгай) и никакого промежуточного слоя. Если тебе не удалась мысль, тебе не удалось ничего. Нет ни аллитерации, ни редкой звонкой рифмы, ни удачно найденного и ясно переданного смутного настроения, какое бывает в магии поэзии, которое можно разыграть, даже не вполне пройдя все пути к мысли. А здесь, в этом стихотворении – "мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная", т. е. "бледнеет" красочность земной жизни, ее чувственные оттенки, обеспечивающие сами по себе возможность для самоудовлетворения. Но в нашем случае, поскольку мы собираемся радоваться мысли, так же как мы радуемся искусству, дана непосредственно сама мысль. Только ведь в радости мысли, в эстетике мысли есть нечто, выделяющее ее из всего другого: "как меч нагой перед тобой", голый меч; или все, или ничего.
Теперь если вернуться к замечанию о пронзительной ясности, то его содержание очень похоже на этот "нагой меч". Могущая быть источником радости пронзительная, сладко тоскливая ясность, при невозможности какого – либо действия, при полной неразрешимости наблюдаемого, возможно именно от того, что ты видишь это в обнаженном, нагом виде. Только вот обнажить это бывает трудно. В юности это состояние обнаженности приходит к нам, как молния, в одно мгновение, и так же быстро, как пришло, уходит. Не всякий научится потом, всей своей жизнью и тренированными мускулами ума расширять это мгновение ясности. Сначала оно даром дается. Но расширить и превратить мгновение в устойчивый источник светлой радости мысли – для этого нужен труд. Не всякий может встать на путь этого труда или просто даже решиться, потому что иногда страшно то, что там выступает в обнаженном виде. И тем труднее для нас обнажить то, перед чем уже нет никаких скидок, никаких компенсаций, никаких извинений, никакого алиби, тем труднее нам объясняться. Ведь мысль в любой данный момент всегда существует, уже дана в виде своих же собственных симулякров. Симулякр – по – латыни означает привидение или двойник, т. е. нечто подобное действительной вещи, но являющееся лишь привидением и заменяющее эту вещь, являющееся ее мертвой имитацией. Это значение перекрещивается и с латинским же словом "симуляторум", которое подчеркивает значение живой игры, что естественно, ибо мертвая имитация живого разыгрывается именно живым, т. е. человеком, и им оживляется.
Pale simulators – бледные симуляторы – тени вещей, которые мы видим. Применительно к нашему случаю – в любой данный момент, когда вы захотите мыслить, всегда эта мысль в виде подобия данной мысли уже существует. По той простой причине, что в любой данный момент в языке есть все слова. Наглядно это можно изобразить так, как если бы я на секунду встал с этого стула, посмотрел в другую сторону, потом повернулся, снопа захотел на свое место, а там уже сижу я. Такой же Я, какой уже помыслен как симулякр, уже мыслится другими в мире, он вокруг меня и вместо меня. Если вы обратите в этом отношении внимание на символ распятия Христа, то он среди многих других содержит и этот смысл. Задумаемся о личности Иисуса Христа. Кто он? Христос – человек, делающий чудеса. А если вы представите, поставите себя на место Христа: у вас есть какое – то живое, ваше собственное состояние, а оно уже существует в неживом виде, в ожидающих глазах окружающих вас людей, – они знают, что вы Христос, человек, творящий чудеса и т. д. Ведь в определенном отношении можно быть распятым и на образе самого себя. И в этом смысле в образе распятия Христа содержится все – таки ирония и насмешливый взгляд в адрес окружающих, поскольку Христос распят на том образе самого себя, каким его видят, каким он должен быть по представлениям верующих христиан.
У кого из нас, – разумеется, не имея в виду такой высокий ранг, – в более скромном виде не было этого ощущения? Еще до того, как мы испытали некое состояние и смогли его выразить и даже пережить, оно уже в виде симулякра существует, как если бы мы должны были пережить именно это, а не что – то другое. Кто из нас не испытывал того страшного недоумения, которое окружает всегда всякую нашу попытку помыслить что – то?! Ведь часто мы с недоумением смотрим на человека, который употребляет те же слова, что и вы хотите употребить, ставит вопросы, которые вы отвергнуть не можете, потому что они составлены вполне логично из имеющихся слов – других слов у нас нет. И при этом мы испытываем смущение: все время думается – ну, не то, что – то не то. А что же это не то? Да просто, раз существуют слова, то из них можно создать миллион умных вопросов, и известно, что любой может задать столько вопросов, на которые не ответит и миллион мудрецов. Просто потому, что всегда есть все слова, посредством произвольной комбинации которых можно получить симулякр – ответ, тень ответа на любой ваш вопрос. Любое ваше мучение, переживаемое как несомненно очевидное и уникальное для вас и требующее определенного мысленного разрешения, – уже существует в ответах. Или, по – другому, – всегда есть вербальный мир, который сам порождает псевдовопросы, псевдопроблемы, псевдомысли, и отличить их от истинной мысли невозможно. Возьмем, например, пушкинскую фразу "на свете счастья нет, но есть покой и воля" и зададимся вопросом – возможно ли, когда человек говорит: "Я хочу покоя" или "Я стремлюсь к покою", отличить покой от стремления ленивого человека к покою? Я например, десятки раз попадал в такую ситуацию со словом "покой", особенно в контексте русской культуры, которая в определенной части насыщена довольно сильным комплексом антимещанства. Этот комплекс часто развоплощается в установку пред – убеждения: когда человеку хорошо, это уже по определению плохо, значит он мещанин, т. е. он хочет довольствоваться мещанским. Это можно было бы и далее расшифровывать, но я возвращаю вас к реальной вашей экзистенциальности, к жизненной ситуации. Когда вы общаетесь с этими людьми в жизни, разговариваете с ними, то неужели вы не ощущаете бессилия от невозможности пройти между действительной жизнью и ее симулякром?
Можно произнести и такую фразу: самое большее, чего можно хотеть – это внутренний покой.
Чем отличается этот "внутренний покой" от жажды покоя ленивым человеком или мещанином, успокоившимся на материальном благосостоянии? Как отличать одно от другого и как задавать вопрос? Почему один вопрос умный, а другой – глуп? Само отличение умного от неумного уже было бы актом ума и если вы актом ума отличаете симулякр от ума, то сам акт, вот такое отличение, вы не можете определить. При этом, даже если вам удастся отличить, то определить, дать список критериев, чем отличается одно от другого, вы не в состоянии.
В курсе лекций по метафизике прозы Марселя Пруста мне приходилось уже показывать, что роман Пруста есть запись духовного странствия или мистического путешествия души, странствия души в мире. Еще раз воспользуюсь сходством проводимой тогда аналогии с дантовским путешествием по Аду, где Данте оказывался перед зрелищем знаменитого "чудовища обмана", которое он – то видит ясно, но вдруг чувствует, что описать его невозможно, невозможно другому передать увиденное (видимое) – это уникально, поскольку для другого глаза (или уха) есть обычные слова, уже описывающие это зрелище. И проскочить мимо этих слов невозможно, так как всегда есть все слова и есть только те слова, которые есть. Данте чувствует: если он скажет это слово (а он может сказать только его, ведь других просто не существует), то уже это будет не то, что он видит. И он вдруг восклицает так:
Мы истину, похожую на ложь,
должны хранить сомкнутыми устами...
Говоря по – другому, он приходит к ситуации молчания. А я хочу выделить для вас эту ситуацию "истины, похожей на ложь". В то мгновение, когда вы уже почти что сформулировали какую – либо истину, вы вдруг видите, что она похожа на существующую ложь, и если вы ее произнесете, она сольется совпадет с существующей ложью. Приходится молчать.
Теперь посмотрим, что же у нас получилось в продвижении по этой горной тропинке мысли? Первое – чувственных радостей мы лишились; если мы собираемся мыслить, нас не выручат промежуточные успехи. Нагой меч, голый меч перед нами или "мысль, острый луч! бледнеет мысль земная". Второе – если нам повезет на мысль, то мы оказываемся в мысли вынужденными к молчанию. Ведь в любой данный момент есть все слова, а из слов составлены симулякры, которые вполне похожи на ваше виденье. И вот душа начинает кричать. Душа становится похожей на движения человека, пораженного хореей, болезнью, еще называемой "пляской св. Витта".
Болезнь эта выражается в том, что все члены тела, ноги, руки, все созданное для жеста и движения человека, приходит само по себе в движение, причем движется в определенном порядке, подчиняется определенному ритму. Скажем, рука делает жест, затем вторая рука делает такой же жест, за ней нога и живое человеческое тело превращается в автоматический самодвижущийся механизм. Чтобы передать вам страдания живого человеческого состояния, в данном случае мысли, я расскажу как видел это. Я прилетел из Москвы в Тбилиси, был солнечный день жаркой, пронзительной, настоящей тбилисской осени. Ожидая, пока привезут багаж, я увидел на газоне около павильона старого человека. Он просто стоял на траве. И вдруг он наклонился, прикоснулся правой рукой к левому колену, потом сжал правой левое колено, затем эту руку поднес к носу, как бы положил ее, еще раз наклонился и еще какое – то движение. Затем все началось сначала: снова эта рука касается колена, потом носа и т. д. А представьте себе, что внутри этого механизма живая человеческая душа и она совершает неумолимо все эти движения. Душа совсем этого не желает, это не она, эти движения не движения ее воли. Оказалось – внутри этого механизма, под его скрежетом тоже есть душа. Как же она должна кричать внутри цикла этих вынужденных движений! Припадок длится минут пять, затем проходит, а наступает без предупреждения, может наступить в любое время. А если, например, растянуть цепь этих движений? Тогда можно себе представить, что, может быть, вся наша жизнь – такая пляска св. Витта, а наша живая душа кричит внутри последовательности, совершенно абсурдной, нелепой, вынужденной, непроизвольной последовательности каких – то ритуальных движений. Ведь движение в хорее имеет ритуальный рисунок; одно следует за другим, рисунок задан и не может быть нарушен. Человек "впадает" в эту пляску и выйти из нее не может.
Но вот вопрос: на то время, пока он "впадает", разве душа перестает существовать? Она же где – то там затаилась, заданная, живое восприятие, живая душа, она где – то существует?! Если мы возьмем эту метафору, растянем ее и предположим, что такое состояние может длиться не пять минут и не выражаться в виде болезни, а быть всю жизнь таким говорением в последовательности, чувствованием в последовательности переживаний, деланием в последовательности дел, то все это – есть своеобразная, экзистенциальная пляска св. Витта. Тогда мы получаем единственное знание: я могу испытывать живое состояние, а в это время место уже занято; я повернулся, а на стуле уже сидит Я; я знаю, что это не я, что место занято и мне некуда деться с моей мыслью.
Оказывается, в области мысли мы тоже испытываем трагическую боль отсутствия себя, впадаем в ситуацию, характерную и для других областей жизни, когда конкретный, налаженный механизм мира заранее вытесняет собою и своей глыбой давит несомненное для меня живое состояние. "Я" несомненно для меня с очевидностью в нем, а ему нет места в реальности. И очень часто именно это есть обычно называемое проблемой самовыражения. Когда человек называет что – то невыразимым, когда он страдает от непонимания других, чаще всего именно этому, ощущаемому изнутри как несомненно живым, нет места в мире действий и выражений (ведь выражения – тоже действия), оно уже занято.
Я хотел двинуть своею рукой в соответствии с живым состоянием или восприятием, а она уже движется в пляске св. Витта.
Теперь пойдем дальше по этой извилистой тропе. Когда обосновывали и вырабатывали научный взгляд на вещи, создавали объективную картину мира и основанную на ней науку, мыслители в качестве примера, которым мы отличаем научную реальность от кажимостной, видимостной реальности, приводили следующий пример. Одним из актов мышления является сознание, что мысль не властна над реальностью, т. е. отличение самого представления от реальности есть акт мысли. И если бы оказался возможным акт остановки моей рукой движения Луны на ее орбите, то это был бы совершенно мистический акт. Человек не может произвольным движением, диктуемым его мыслью, остановить Луну на ее орбите. Однако по ясно оговоренной этими же мыслителями позиции мистичен не только акт остановки рукой движения Луны на ее орбите, но столь же мистичен и простой акт движения нашей руки. Вдумайтесь – каким образом я могу мыслью приводить в движение руку. Кто это знает, кто это понимает, и кто, если выражаться на псевдонаучном языке, имеет модель этого происшествия? Как вообще материально можно, во – первых, привести в движение и, во – вторых, как можно мыслью координировать столько элементов такого движения? Любой анатом нам скажет, из скольких элементов состоит всякое мускульное сочетание двух мускулов и если бы актом мысли это необходимо было бы все делать, это оказалось бы невозможным. Тем не менее, какой – то духовный приказ (мысль) приводит руку в движение. Это такая же мистика, как если бы кто – то остановил Луну или Солнце.
Этот простой и загадочный пример относится все к тому же живому, которое может быть задавлено каким – то механизмом и искать себе выражение. Пока все в порядке, действия, которые мы не можем совершать чистой логикой, а совершаем каким – то духовным приказом, проходят, совершаются. Все обстоятельства складываются так, что человек действительно желает двигать рукой и двигает ею. Но ведь есть еще и выразительный акт движения руки. И если не все проходит гладко, причем независимо от нас, как в пляске св. Витта, то оказывается, что не все в порядке и руки движутся без всякого выражения. Более того, в любой данный момент выражения мысли, она располагается на N – м числе точек: когда я говорю – слушающие понимают сообщаемое, я понимаю произносимое мною и это просто означает, что мысль одновременно существует и в головах слушающих, и в моей голове. Как это происходит – никто не знает, но то, что это происходит, мы узнаем по акту восприятия друг друга.
Теперь вернемся к тому, что мы зафиксировали: у нас есть какое – то состояние; назовем его условно переживанием. Впоследствии мы будем вести это переживание к состоянию мысли, но пока мы не знаем, что такое мысль. Назовем это просто переживаемым нами состоянием, в котором с очевидностью мы сами живем, в котором мы живы и живые в проживании этого состояния. Кроме того, в нем есть какая – то ситуация, сочетание неких обстоятельств, и мы убедились – этому нашему состоянию (переживанию), с очевидностью нами переживаемому, может и не быть места. Вопрос этот, как стало ясно, не простой. Он связан с какой – то тайной в мироздании. На примере с Луной мы убедились, что не менее таинственно простое движение руки, что может проходить координация, во – первых, многих элементов, слишком многих для нашего ума, во – вторых, несовместимых один с другим, как материя несовместима с духом.
Значит, есть какая – то тайна, располагающаяся в соединении души и тела. Кстати, Декарт в свое время (его часто излишне упрекают в дуализме, которым он как бы разделил мир на две субстанции: мысленную и телесную) предупреждал о возможном существовании, так сказать, третьей субстанции, а именно – союза тела и души, которое само по себе ни откуда не выводимо и ни к чему не сводимо. Декарт в этом предположении исходил из своего понимания субстанции, которое сейчас, в XX веке более ясно и прозрачно. Мне важно указать вам, что субстанцией можно назвать то, что дальше не имеет никакого другого носителя, ни к чему не сводимо и носитель самого себя. Таковой субстанцией является, например, материя. Можно допустить и существование мысленной субстанции. Но есть еще и субстанция, которой не должно было бы быть, но она есть. Коинцинденция, совпадение наших любовных чувств па любовном свидании есть такое таинственное соединение, как движение руки, такая же координация многих элементов, к тому же не имеющая в себе содержание, которое мы мыслью не можем заместить и возместить. Мысль не властна над реальностью и человек не способен в такую координацию включить какой – либо из головы выдуманный элемент. Если повезет, человек может увидеть сцепление подобных обстоятельств в сознании ясности. Однако и это ясное сознание само по себе тоже есть событие в мире, не поддающееся произволу ума.
Мне хочется привести вас к ощущению, что мысль непроизвольна, мысль тоже есть явление, которое мы не можем иметь по своему желанию. Нельзя захотеть и помыслить. Мы можем иметь ее лишь как событие (не мы, не наш голый рассудок рождает мысль) и именно в движении завязываются многие нити так, что вдруг случается. Такие же нити завязываются, когда случается понимание. Понимание нельзя передать, если вы не понимаете до того, как вам что – то говорится; говоримое нельзя передать никакими логическими средствами, никакими средствами общения, если до этой передачи мы с вами не связаны каким – то другим способом. А в этом способе уже как – то все связано, там приходится применять другие понятия и представления.
В таких ситуациях можно говорить: судьба или не судьба. Скажем, излагаешь слушателям, а тебя не понимают н ты произносишь – не судьба. Ты не говоришь, что слушатели не умны, что сам недостаточно хорошо объяснил; нет! и слушатели умны, и есть уверенность в том, как объясняешь. Но... не получается, видишь – не в этом дело и говоришь – не судьба. Значит мысль уже имеет какое – то отношение к судьбе. Более того, фактически, когда мы говорим о мысли, мы говорим о существовании, о бытии. Почему так происходит? Это ясно, скажем, когда мы разбираем положение о мысли, или живом, не умещающемся внутри пляски св. Витта, но сознаем с очевидностью себя живым, то мы говорим о бытии. Кроме того, очень часто мы оказываемся в таком положении, что с горькой ясностью произносим: это – не жизнь, это – не существование. Мы произносим это из ситуаций нашей жизни, нашего сознания. Мы это утверждаем вслух из позиции человека, находящегося внутри пляски св. Бит – та, который подобен белке внутри механического колеса. Живая белка, если бы могла, глядя на собственное движение, конечно бы, сказала: это – не жизнь, это – не существование. Аналогично и мы о многом, приходя к определенной точке, утверждаем: это – не моя жизнь, не мое существование. Слово "существование" появляется именно там, где возникает живая очевидность чего либо (пока мы называем это мыслью), или живое самоочевидное переживание, которое может быть удачным, совпадать или не совпадать, а может быть и неудачным, неуместным. Мы можем оказаться неуместными именно в том, в чем мы есть Мы, в самом прекрасном и возвышенном, подобно той женщине, которая переживала самое лучшее, искреннее чувство – любовь, и целовала своего мужа, в ту минуту державшего поленья перед камином, поэтому он мог бы только ее возненавидеть.
Этот жест ее (поцелуй) ведь был предельно выразителен в ситуации неуместности. И если вспомнить, что мы уже говорили о выражении, приходится задать недоуменный вопрос: можно ли вообще что – то выразить? что значит выразить справедливость? выразить чувства? Сам вопрос "отвечает" – выражение связано с существованием, с тем, в чем мы есть или не есть. И (сделаем следующий шаг) это существование находится в каком – то срезе реализации или нереализации. Случилось или не случилось – ведь может что – то во мне происходить, но это происходящее как бы не случилось. Не произошла та живая душа человека, охваченного пляской св. Витта, она не получилась, она должна быть или собирается быть, но не получилась, не реализовалась. А если произошла, если двинул рукой не в приступе хореи, а в осмысленном движении протянул руку за предметом, то это случилось. Все сошлось так, чтобы это случилось, реализовалось. Ведь когда мы взыскуем справедливости, то чаще всего мы имеем дело со своими собственными состояниями, не являющимися тем, чем мы их называем. Они не есть именно по признаку "случилось – не случилось", реализовалось – не реализовалось, получило бытие или нет, о – существилось или нет. Скажем, потуг, порыв честности психологически для нас может быть несомненен, но порыв честности – это одно, а честность – другое. Намерение справедливости есть одно, а справедливость – Другое.
Это Другое, "пришпиленное" к справедливости и честности, обозначим для начала словом более адекватным – искусство, или труд. Тогда честность – не намерение, а труд, и чтобы быть честным, нужно быть искусным, нужно с – уметь быть им. Здесь у нас возникает единственная дорога к мысли, потому что мы вводим отличение, мы отличаем эмпирически переживаемое состояние от действительности. Отличение получается, когда у нас возникает недоверие к эмпирической несомненности каких – то состояний в нас самих. Например, слабый безмускульный человек испытывает желание добра и чтобы оно не обернулось злом, как это обычно бывает, то нужен особый талант и умение, чтобы добро осуществилось, т. с. добро есть искусство. И момент начала мысли состоит уже в том, что человек может сказать себе: эмпирически (в его несомненном переживании) данное добро сеть в виде желания, намерения, а реальное добро – это что – то другое.
В историческом ходе выработки философской терминологии такое отличеиие обозначалось как вещь и "вещь сама по себе"; есть справедливость или добро, существующие в эмпирических фактах и есть добро и справедливость "сами по себе". Это абстрактное понятие идеализма рождается из простого различения: добро отличается от доброго намерения тем, что мы называем добром "самим по себе". Оно связано с целым созвездием терминов: случилось, действительно произошло, реализовалось, прошло (движение прошло или не прошло); оно связано еще с искусством, с искусным деланием чего – либо. Оказывается, недостаточно эмпирически испытывать доброе намерение, но есть еще что – то, связанное с добром. Это "еще что – то" мы уже можем назвать "добро само но себе" и наш шаг к нему назвать шагом мысленным , поскольку нечто мыслится в отличие от того, что эмпирически переживается. Намерение добра может эмпирически пережить любой расхлябанный человек. Трус переживает храбрость или желание быть храбрым. Но "добро само по себе" возникает тогда, когда мы начинаем и объявляем акт недоверия к факту переживания добра.
Иными словами, мы начинаем понимать, что человек – существо, для которого не существует естественного добра, естественной справедливости, естественной честности, такой, которая происходила бы просто сама собой, фактом эмпирического их испытывания или намерения. По данному признаку различаются целые исторические этапы в некоторых культурах и даже некоторые культуры друг от друга. Скажем, в европейской, религиозно – грамотной и отшлифованной культуре эти вещи давно уже отработаны. Собственно говоря, язык религии и нужен для того, чтобы отличить человека, стремящегося к добру, от человека доброго, т. е. отличить добро как психологическое качество (французы в этих случаях говорят velleite – потуг добра, психологически достоверный для человека изнутри), отличить от добра. В таких культурах есть отработанный язык, а в таких инфантильных культурах, вроде русской, он может появляться гораздо позднее, требовать больших усилий. Это простое различение в русской литературе, славящейся своей совестливостью н человечностью, появляется только у Достоевского и появляется мучительно. Это различение уникально и можно сказать, что русская литература так и прошла мимо Достоевского, его урок не услышала, и сам Достоевский в этом смысле тоже прошел мимо самого себя. "не попал на поезд". Достоевский – мыслитель чаше всего просто систематизатор своего собственного состояния,.а Достоевский – писатель, тривиально разыгрывающий эти вещи. как поэт, литературный феномен сам но себе во многом иной. Его известный роман "Униженные и оскорбленные" интерпретировался и воспринимался по критике Белинского, как произведение, выполняющее традиционную человекозащитническую миссию русской литературы, которая всегда была на стороне угнетенных и обиженных. В действительности же (что странным образом оказалось незамеченным многими литературными критиками того времени) в этом романе происходит полное выворачивание такой традиционной русской позиции. В романе наглядно представлено, в какое зло могут превратиться добрые состояния, если они ocтаются только естественными, т. е. порождаемыми нашим психическим механизмом. Оказывается, что с бедностью не связана никакая привилегия, бедный человек еще не означает человека, наделенного чувством социальной справедливости в силу своей бедности, что за бедностью и нищетой может скрываться большое зло, высокомерие н ненависть к окружающим и даже представлен тип человека, который может наказывать окружающих своей бедностью, несчастностью. Оказывается, желание добра у самых в психологическом смысле несомненно добрых людей порождает вокруг них такое зло, какое отъявленные злодеи не смогли бы создать.
В предыдущем рассуждении я попытался указать точки, на которых появляется нечто, называемое мыслью или мышлением. Эти точки окружены различными словами: коинциденция, совпадение, координация, естественное – неестественное, реализованное – нереализованное, случилось – не случилось и др. Употребление этих необычных слов связано с природными, а лучше сказать, с метафизическими невозможностями языка. Эти невозможности существуют и в реальности. При встрече с ними философ обычно добавляет некоторые странные слова. Латиняне употребляли слово "per se", – "как таковой". Этот оттенок "как таковой" трудно уловить. Но когда хотели высказать какую – то трудно уловимую мысль, добавляли "как таковой". И поскольку нам необходимо рассмотреть некоторые метафизические трудности слова, я хотел обратить ваше внимание на "невозможность сказать", или на "слово как таковое".
Если вдуматься, то в каком – то смысле человеческая жизнь как таковая относится к числу невозможных вещей. Когда такое говорится, не отрицается, что она есть. Она есть, но это удивительно, потому что она невозможна; непонятно, каким образом она есть, потому что ее не должно было бы быть. Не может быть. что она есть. Вы представьте себе сколько вещей должно было сойтись вместе, чтобы мы были живы теми частями нашей души, которые жаждут жизни. Скольким частям нашей души должно повезти, чтоб они встретились бы, случайно, каждый раз, именно с тем, что им нужно в данный момент или в данном месте? Это же невозможно. Ведь часто мы в себе убиваем желания и чувства, которые никому не приносят зла, только потому, что у нас нет сил, времени или места, чтобы осуществить и прожить их, убиваем их только за то, что они неуместны. Мы не реализуем их, т. е. мы не живем и оказывается, что жизнь невозможна. Следовательно, в строгом смысле слова "жизнь как таковая" – невозможная вещь, и если она случается, это чудо. Большое чудо.
Вот отсюда и начинается мысль, или философия. Мысль рождается из удивления вещам как таковым, и это называется мыслью. Мысль не есть исчисление; даже если я написал: "два" и "два", затем подумал: "два плюс два – четыре", то это не мысль. Мысль нельзя подумать, она рождается из душевною потрясения.
К такого же рода невозможностям относится любовь. Трудно привести пример абсолютно бескорыстной любви, и тем не менее она случается, хотя обычно, если это любовь человеческая, к ней примешиваются всегда какие – то другие мотивы. К такому же ряду явлений (скажем, жизнь, я сказал в строгом смысле невозможна, хотя случается и т. д.) относится и сама мысль, чистая мысль. Мысль вырастает из удивления, отметили мы, а удивиться, например, невозможной жизни, что она – таки есть, и думать об этом – есть мысль. В этой мысли отсутствуешь ты, но она, мысль, есть твое состояние, посредством которого ты не прославляешь себя, не украшаешь себя, не компенсируешь в себе какие – нибудь недостатки, не прилепливаешь себе павлиньего хвоста или павлиньего пера, не испытываешь какое – нибудь другое чувство, не наказываешь кого – нибудь другого посредством мысли, не соперничаешь с кем – нибудь посредством мысли и т. д. Посмотрите, сколько в истории мысли таких, где вы отчетливо увидите, что это не мысли, а способы, посредством которых те или иные люди, конкретные люди переживали какие – то в них существовавшие, совершенно независимые н до мысли возникшие состояния души. Просто через мысль канализировалось какое – то заранее задуманное: комплекс переживаний, зависть, гнев, претензии к миру, желание самоутверждения, желание дополнить себя чем – то, компенсироваться.
И тогда вы поймете, что если есть мысль, то она может быть только чистой мыслью, а чистая мысль в человеческих руках – невозможная вещь. Можно привести десятки примеров из истории мысли, и которых ясно читается, что человек мыслит не. по содержанию мысли, а по внешнему содержанию, я даже по внешнему механизму этого содержания.
Есть одно прекрасное письмо Платона из его семи знаменитых писем, которые периодически то считались неаутентичными письмами, фальшивками, то потом утверждались как действительно Платоном написанные. В конце концов преобладала точка зрения, что большинство этих писем действительно написаны Ппатоном и, во всяком случае, действительно доказано, что седьмое. письмо принадлежало Платону. Оно написано Дионисию, тирану Сиракуз. Покровительства Дионисия Платон ожидал в надежде на помощь в построении идеального государства. Взаимоотношения тирана и Платона были довольно сложные, менялись от любви до ненависти; тиран даже пытался продать Платона в рабство. Письмо относится к тому эпизоду, когда до Платона дошли слухи, что Дионисий распространил какие – то политические трактаты, в которых он излагал идеи о государстве, и в этих трактатах ссылался на то, что эти идеи о государстве якобы являются развитием идей Платона о государстве. В письме Платона есть потрясающие и очень знаменательные слова. В этих словах интересны два парадокса метафизики.
И Платон вдруг пишет так: в том, как вы пишите, ясно видно, что это пишет человек, который хочет показать себя как мыслителя и писателя (вспомните, что я говорил перед этим), приобрести славу, а не вспомнить. Потрясающее словосочетание. Никто из вас и никакой читатель не ожидал бы, что в этой строке вдруг выскочит вот это последнее слово.
Я его не употреблял, это слово, когда перечислял вам разные внешние мышлению механизмы, которые заменяют мысль. Но мы уже разбирали, когда мысль может служить украшением, когда человек пользуется мыслью для прославления себя, и, следовательно, не мыслит. И вдруг Платон расшифровывает, что значит "не мыслить". "Не мыслить" означает "не вспоминать"; "мыслить", означает "мыслить, чтобы вспомнить"; т. е. совершать какой – то акт, чтобы "вспомнить". Здесь сталкиваются неожиданные термины, все время выскакивает слово "вспомнить", что приводит к неожиданности, к сгущению контекста в парадокс. Затем идет второй знаменательный парадокс, имеющий отношение к нашей теме. Платон говорит – у человека, который мыслит для украшения себя мыслью и прославления, а не для того, чтобы попомнить, не может быть ссылок на какие – то якобы писания Платона но одной простой причине: о чем в действительности мыслит Платон, – а идеальное, государство – предмет его мышления, – не может быть ничего написанного. И поэтому ссылаться на написанное об идеальном государстве нельзя, поскольку об этом предмете не может быть ничего написанного. Платон хочет сказать, что о предмете действительной мысли вообще ничего написать нельзя. Выразить письмом мысль нельзя, мысль невыразима.
Так мы снова пришли к невозможности мысли, снова зачислили се в ряд метафизических невозможностей. Стоит ли заниматься невозможностями, стоит ли проводить столь странную и трудную работу? Но с нсвозможностями необходимо иметь дело хотя бы потому, что по дороге к невозможному только н можно что – то иметь, что – то разрешить. Пели вы помните, у Нищие обрисован идеал сверхчеловека, который просто невозможен и утопичен. И Ницше знал, что сверхчеловеками мы не станем, но стремясь быть сверхчеловеками, мы станем людьми. Хотя бы поэтому имеет смысл кружиться вокруг невозможного. Это относится и к невозможной любви. Скажем, Данте прекрасно знал о невозможности человеческой любви и реализовывал высшую ее степень, заменив даму Беатриче дамой Философией. То же самое сделал Петрарка. И, когда один из пап предлагал помочь ему в женитьбе на его возлюбленной, он разумно отказался. Он понимал, что неизвестно, кто кого сожжет, и предпочел стихи. Не в том смысле, что он любил стихи, как я сказал. Это очень трудно выразить словами, человеческий язык постоянно подводит нас. Но мы уже знаем, что в каждый данный момент есть все слова и только те слова, какие есть. И мысль выражать невозможно. Например, Кант заметил, что Петрарка просто больше всего любил стихи. Но говоря это, он имел в виду определенный контекст, без которого не понятно, что значит "любить стихи". Вообще, обычно понимается, что любить стихи – это любить писать стихи. Но здесь не об этом идет речь. Можно ли объяснить тог вид целомудрия, который то, что может существовать только в поэтическом виде, боится разрушить соприкосновением со случайностями потока жизни? Это совсем не похоже на страсть человека уединяться в кабинет, закрываться от жизни и писать. Петрарка не был писарь, который любил строчки выводить па бумаге, вместо того, чтобы жить. Его стихи и были для него реальной любовью, более реальной, чем та, другая любовь. Приведенный пример похож на, казалось бы, иные случаи. В Евангелии описываются случаи, традиционно называемые опасными состояниями или опасными мыслями. По поводу одного из них у апостола Павла есть такое выражение: "Не боишься ли ты, что твоя мысль, или ты сам будешь опасен для соседа?"
Представьте себе, что необходимо выразить содержание не соединимых друг с другом вещей. Вот, например, такой грубоватый и страшный вопрос: можно ли, простите меня за прозаизм, спать с огнем? Нельзя, и не потому, что огонь девственник. И огонь "может знать" это и избегать женщин. Кстати, это – одна из причин, почему Христос избегал женщин.
Таким образом, в сегодняшней беседе я начал с одной характеристики невозможной мысли и завершил другой характеристикой невозможной мысли. И поэтому мудрецы ранние говорили: эта мысль – этот человек, т. е. один человек может держать эту мысль, другой – нет. И значит "эта мысль" может быть опасна для другого человека и ее передавать ему нельзя. Значит мысль может быть настолько невозможной, что для нее нужен доже особый носитель, могущий се держать. Не случайно символом самой мысли является Прометей, огонь, который прикован к скале богами. Но уже давно люди довольно успешнее приковывают таких опасных носителей к скалам или к крестам, взяв на себя миссию богов. Да и философы уже давно стали осознавать себя носителями опасной мысли. В этом смысле слова философ или мыслитель есть граничное существо, т. е. представитель того, чего нельзя выразить, нельзя написать. Поэтому у нас всегда есть выбор: или не впустить его в нашу страну, или арестовать как шпиона. К тому же он действительно шпион, потому что невыразимое, носителем которого он является, для него есть "неизвестная родина", – как выражался Пруст, – "единственная родина художника", со всеми вытекающими отсюда обязательствами.
Платон дальше интересно говорил, что можно выразить лишь нечто мелькнувшее на какое – то мгновение, несомое атмосферной волной беседы в диалоге. Так, в разговор, не обязательно двоих, оно может как – то возникнуть, как искорка в воздухе, между разговаривающими людьми на какую – то секунду, без преднамерения у того, кто говорит. Обычно мы ведь речь рассматриваем как преднамеренное построение для уже готовой, существующей мысли. Мы как бы одеваем одежду на существующее тело. А тут во время ситуации беседы и какая – то взаимная индукция людей вдруг рождает то необходимое, невозможное выражение. Как считал Платон, только в беседе может что – то быть. И возможно это как – то проясняет тот исторический казус, который произошел с работой Платона. Вы знаете, что Платон – автор прекрасных по форме, художественной форме диалогов, а Аристотель – автор сухих ученых сочинений. Платон не любил писать, любил беседы, а Аристотель любил писать. В околоплатоновских кругах он даже заслужил прозвище "Читатель". Но от Платона, который любил беседы, не сохранилось никаких записей бесед, сохранились только написанные сочинения, которые он не любил. А от Аристотеля, кроме каких – то фрагментов, весь аристотелевский корпус – это все, что им не написано, это все ученические застенографированные записи его уроков.
Этими длинными пассажами и отвлечениями мне хотелось прояснить то, что я должен о невозможности говорить вслух, предполагая, что вы на слух будете это воспринимать. Но пока мы лишены здесь тех компенсаций, видимых промежуточных успехов, смысл которых мы рассматривали в прошлой беседе. Я напомню о них вам по – другому, на примере человека, лишенного каких – либо способностей, к каковым я отношу и себя. Скажем, у человека нет ни музыкального слуха, ни способностей к воспроизведению цвета, красок, ни способностей к изображению пли подражанию, у него нет никаких одаренностей, которые сами собой в любом человеке фонтанируют и тем самым занимают его силы и время. Ему всегда, так сказать, некуда деться, некуда укрыться. Тогда, если так плохо, если неудача, то именно такая неудача. Все это немного похоже на мысль. Когда ты остаешься один на один с необходимостью думать, мыслить, когда ты обречен делать невозможное, то тогда ты до конца сумел продумать что – то, или нет. И тогда у тебя ничего нет, и тебя самого нет, потому что у мысли нет никаких промежуточных компенсаций и успехов.
Как – то в 1918 году в короткий период совместного труда, встречаясь в Лондоне, Рассел или Витгенштейн (я не помню кто именно, но это не столь важно) в сердцах сказал, что logic is hell – логика это ад. И я могу вам подтвердить: философия или мысль – это ад.
Декарт в свое время считал, что мышление в том смысле, в каком мы сейчас с вами говорим, есть нечто, чем заниматься возможно четыре часа в месяц, а остальное время делать другие дела. Можно мыслить четыре часа в месяц, но не больше, поскольку это не в человеческих возможностях. Кстати, Платон это же словосочетание несколько в другом виде употреблял. Говоря о промелькнувшей искорке, он подчеркивал, что она может промелькнуть на пределе человечески возможного. С этим связан жуткий труд мысли: все, с чем мы имеем, дело происходит на пределе человечески возможного , мысль доступна человеку на пределе напряжения всех его сил.
Коль скоро мы установили, что мышление относится к ряду так называемых, метафизических невозможностей, то, естественно, мышление не является само собой разумеющимся событием. Оно может случиться, а может не случиться. Есть какие – то условия, чтобы событие мышления случилось. И в этом смысле событие мышления похоже на события жизни. Так же, как события жизни почти что невозможны, точно так же н события мышления почти что невозможны, но бывают – и это удивительно. Сама эта удивительность тоже вызывает мышление. Мы начинаем мыслить, когда удивляемся. Как это может быть?
Повторяю, вы знаете, что удивление лежит в основе философии. Первые философы удивились, конечно, не в психологическом смысле слова, как мы обычно понимаем. Опять у нас есть те слова, которые есть, в том числе одно и то же слово "удивление", обозначающее совершенно разные вещи. Для нас здесь важно "удивление" тому, чего могло и не быть и должно было бы не быть, но оно есть. Удивительно, когда все в мире построено так, чтобы не было добра, красоты, справедливости и т. д. И тем не менее иногда есть справедливость, честь, добро, есть красота.
Иногда легко понять "удивительность", если осуществить простой акт самонаблюдения. Наверняка каждый из вас испытал в юношестве одно чувство, которое состоит (оно, правда, само по себе есть удивление), в поразительном наблюдении хрупкости. Это ощущение, чаще посещаемое людей в молодости, есть необъяснимое и часто убийственное чувство сознания необъяснимой хрупкости и как бы абсолютной обреченности на гибель всего прекрасного, всего благородного, всего высокого. Удивительно, что все это обязательно гибнет, а все отвратительное живет и процветает; то обречено на процветание, а это на минуту промелькнет и рассеивается, как бы и не было. И конечно, выражение Гете; остановись мгновенье, ты прекрасно! – вовсе не гедонистическое, не сенсуалистическое выражение, как часто понимают. Нет, за этим стоит вот это сознание действительно странной какой – то и непонятной обреченности всего высокого и прекрасного. Оно как бы не держится ни на чем, не на чем ему держаться.
И, собственно говоря, если бы это было не так, то не было бы никакой мысли. Только у существ и только в таком мире, где хрупко и как бы неминуемо обречено все высокое и благородное, есть и возможна мысль, потому что такие существа можно назвать историческими существами. Они являются таковыми, поскольку помещены на некоторой точке, которая находится на какой – то бешено закрученной кривой, окруженной хаосом иррациональным и гибелью. И это – мысли и мысль – есть вопрос о том, на каких условиях и как такая точка может удерживаться на этой кривой, и почему вообще такая кривая существует?
Почему вообще, – здесь я переверну вопрос так: зачем вообще нужно трудиться? Почему не все прямо? Это странный, казалось бы, вопрос. Но вот вы когда – нибудь удивлялись тому, почему не все прямо? Например, я добр, хочу добра. А почему, собственно говоря, его нет? Я чувствую, ощущаю, вижу справедливость. Почему тогда ее нет? Я желаю вам хорошего. Почему же еще нужно потрудиться, чтобы это хорошее случилось, и почему нужно то, что я на прошлой лекции говорил, искусство для этого, искусный труд? Почему история показывает, что хорошие намерения оборачиваются злом, почему не все – прямо? Почему еще нужно трудиться? Почему мир создан таким образом?
Это удивительно. Даже недостаточно иметь, эмпирически иметь, состав прекрасных чувств, прекрасную душу, даже недостаточно собрать всех прекраснодушных вместе. Оказывается, если их отобрать вместе, получится такая банда скорпионов, что не дай бог. Опыт и факты показывают. Оказывается, для свершения добра, высокого, нужен труд, притом искусный труд. Почему нужен этот труд, почему честь есть искусство? Ведь вы прекрасно знаете, что можно написать роман с самыми лучшими намерениями, назидательный роман, и он будет сеять злой порок в силу того, что он плохо написан. Странно и парадоксально, но хорошо или плохо написанное может иметь самое прямое отношение к добру и злу. И, конечно, вы уже понимаете, что хорошее или плохое написание, труд, искусство, искусность или искусный труд – все это, конечно, как – то связано с тем, что я называю мыслью.
Теперь от "удивления" вернемся к нашему исходному ощущению, к этому нашему недоумению: почему, собственно говоря, все не ладится? Почему мы чувствуем, что все прекрасное так хрупко и как бы заранее обречено на гибель, и так проходят столетия?
Эти вопросы указывают на то, что называемое мыслью, пока еще далеко нерасшифрованное нечто, оно связано с тем, что я параллельно буду расшифровывать как природу и место человека во вселенной. Конечно, нужно расшифровывать и человека, существо загадочное и остающееся загадочным. Даже если не разгадаем эту загадку, то, повозившись с ней, мы кое – что узнаем и поймем.
Вспомним чувство невыразимости, связанное с упоминаемым словосочетанием "неизвестная родина". Если сблизить ЧУВСТВО "неизвестной родины" с ощущением непонятности, непонятной обреченности всего высокого и доблестного, то мы ощутим у себя какую – то ностальгическую отстраненность от того, где мы живем, с кем связаны, от нашей страны, от нашей родины, от нашей географии, от наших нравов и обычаев. За этой ностальгической отстраненностью стоит ощущение и отблеск неизвестный, непонятный, но отблеск чего – то другого. Это и есть первый отблеск мысли. В этой форме впервые является мысль, не имеющая пока никакого содержания, никакого контура, никакого облика, никакого предмета.
Это ощущение свойственно всякому человеку и вообще человеку. Он мог его забыть или закопать, но не быть – оно не могло. Настолько прочно оно находится в конституции человека. И свойственно оно человеку по той простой причине, что люди желают жить, человек хочет жить.
Но жизнь есть нечто такое, о чем никогда нельзя сказать "вот здесь", т. е. точечно. Жизнь нельзя назвать, обозначить, локализовать. Про жизнь никогда нельзя сказать конкретно, определенно, потому что жизнь – это всегда что – то еще. Самое жизнь невозможно "схватить" сейчас, в данный момент, поскольку "живое" по определению, по существу своему, если оно живо, оно всегда в следующий момент. Оно как бы расширительно. И вне этого расширения жизни вы не можете ухватить жизнь.
Почти любое другое явление можно ухватить точно, а жизнь – нельзя. Вот вы видите жизнь в точке А, и когда вы определяете ее в точке А, вы определяете так, что она уже в точке В, в следующей точке В, если она жива. Это и значит, что "человек хочет жить". Хотеть жить – это хотеть занимать еще точки пространства и времени, т. е. восполнять себя или дополняться тоже и тем, чего мы сами не можем и чем не обладаем. Скажем, мне кажется, я люблю Нану, существо, наделенное определенными качествами и в силу этих качеств вызвавшее наше движение и наше стремление. Но в действительности наше движение и наше стремление вызвано расширительной силой жизни.
Это одно из пространств, где уместно начать мыслить, т. е. отличать, что и почему ты любишь. Любишь ли ты Нану потому, что у нее голубые глаза, или ты любишь ее потому, что ты расширяешься? И линии судеб будут весьма различны в зависимости от того, что и как ты поймешь.
Значит пока мы завоевали следующее различение между реальностью и представлением. Нана, любимая мною, потому что у нее голубые глаза и она верх совершенства – это представление, а реальность (причина та, которая скажет свое слово в нашей судьбе и наложит отпечаток на контур наших взаимоотношений) – это нечто Другое.
Слово "другое" уже фигурировало в нашей беседе. Когда я говорил, как нас охватывает ностальгия, как мы ощущаем отстраненность от окружающих нас людей, от родины, от страны, от нравов и обычаев, тогда что – то неизвестное – Другое – манит нас и вызывает в нас тоску. Теперь оказывается, что первоначальной формой "другого" является вот это "абстрактное другое". Не то, которое мы различили уже на втором шаге, а то, которое выступило в первоюношеской, еще невнятной тоске. Эта тоска забудется, она закроется и мы ее вспомним, когда различим, так как нам долго будет казаться, что именно качества Наны являются предметом, вызывающим любовь.
Еще долго мы не будем различать представление и реальность, и мы еще по очень крутой орбите будем возвращаться к первоначальной юношеской тоске, тоске другого мира. Поэтому, собственно говоря, мышление у Платона называется словом "вспомнить". Вспомнить. Оказывается, это другое уже было. Поэтому такого рода вещи закреплены в легендах человечества. Закреплены как воспоминание о золотом рае. Причем, это могло и не быть реально. Ведь с юношей, у которого вот эта первоначальная тоска "другого", это "другое" с ним реально не случилось или могло реально не случиться. И поэтому Пруст (ведь все его путешествие есть путешествие к потерянному раю), в одном месте говорит так: всякий рай есть потерянный рай, рай, которого никогда не было. Это странное, парадоксальное сочетание – ты ищешь рай, которого никогда не было, но ищешь его.
Того "другого" тоже никогда не было, но ты его ищешь. И это реальная сила и реальный предмет воспоминания. Оно необходимо потому, что кроме всего прочего в воспоминании заложено различение, иначе нам не доступное, между реальностью и представлением. Иначе само это различение к нам ни откуда не может придти.
Ни из какой совокупности опыта нельзя вывести различие между реальностью и представлением о ней. Всякая реальность нам дана представлениями о ней. И сама мысль о том, что есть реальность и представление о ней, и одно отлично от другого, ни откуда нами не может быть получено. Но оно откуда – то приходит и платоновское "вспомнить" – один из путей, по которому оно к нам приходит.
Есть и другие пути подобного косвенного взгляда, который может помочь нам различить неразличимое. Обратимся к примеру Анри Пуанкаре. Представим себе, что есть плоскость, на которой живут одноплоскостные существа. Они движутся на этой плоскости и ведут себя таким образом, что меры, посредством которых они измеряют свое движение в какой – то точке X, сами сокращаются по мере их движения. Поскольку эти меры сокращаются, и сами существа сокращаются, то они никогда этой точки не достигнут. Замените эту точку словом "реальность", они тогда к этой реальности не придут. В их представлении это – бесконечность. В одном месте Пуанкаре говорит: "Но одному умному человеку пришла в голову мысль: простите, это же одно измерение, давайте посмотрим сбоку, есть и другие измерения, посмотрим так".
Это иллюстрация к возможности различения реальности и представления. Человек, который смог бы так посмотреть, был бы Коперником, потому что такому взгляду невозможно было появиться. Этот другой взгляд сбоку, чтобы увидеть, что это – плоскость и одномерная линия, невозможен, поскольку ему неоткуда здесь взяться. Здесь даже понятия не может появиться, что есть вот реальность, и что это – конечность, а не бесконечность. И тем не менее Коперники случаются.
Когда начинаешь мыслить, таким путем вводятся философские представления. Потом они сокращаются, все лишние способы введения опускаются, и начинают оперировать уже словами: реальность, представление, конечность, бесконечность – и вы оказываетесь перед текстом, в котором только эти слова и уже ничего понять нельзя.
Мамардашвили М.К.БЕСЕДЫ О МЫШЛЕНИИ
Из курса лекций, прочитанных в 1986 – 1967 гг. в Тбилисском университете.
Эстетикой мышления можно назвать наши беседы в связи с тем, что искусство, как известно, прежде всего – радость, а речь у нас должна идти о радости мышления. По – видимому, не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусством , которое не было бы связано с особым пронзительно – радостным состоянием человека. Пруст даже как – то заметил, что может быть, критерием истины и таланта в искусстве, в литературе является состояние радости у творца. Состояние творческой радости может быть и у того, кто читает или смотрит. Что это за состояние радости, которое к тому же еще может быть и критерием истины? Можно сказать, что у мышления есть своя эстетика, что мысль безусловно связана с радостью, иногда с единственной радостью человека. Эта радость относится и к мысли, о которой я хочу беседовать с вами, и к мысли, в связи с которой вообще возникает вопрос: "что это значит?", "что это за состояние у человека и зачем оно вообще?".
Иногда или чаще всего нам ничего не остается, кроме того, чтобы получить светлую радость мысли. Можно к ней добавить и другие прилагательные. Например, чаще всего достоинство человека выражается и может выразиться в том, чтобы хотя бы честно мыслить. Мы многое делаем по принуждению, и часто то, что мы делаем, не зависит от нашего героизма или трусости. Но есть одна какая – то точка, в которой мы, вопреки всем силам природы или общества, можем хотя бы думать честно. И я уверен, что каждый из вас, независимо от того, удавалось ли вам быть не просто в состоянии честности, а в состоянии честной мысли, знает особую какую – то вещь, которую человек испытывает, когда загорается неизвестно откуда пришедшая искра, которую можно назвать Божьей искрой. Существует особое состояние пронзительной, томительной ясности, отрешенности и какой – то ностальгической, острейшей, кручинной или сладко тоскливой ясности. Даже беду в мысли (в том, что я называю мыслью и чего пока мы не знаем), даже эту беду можно воспринять на какой – то звенящей, пронзительной, как ни странно, радостной ноге. Но что может быть радостным в беде? Только то, что ты – мыслишь, г. е. твое сознание твоего сознания. Но можно ли думать, когда тебе больно и испытывать от этого радость? Радоваться можно лишь тому, что в этой боли выступило с пронзительной ясностью. Ты смотришь, опустив руки, и тем не менее никто у тебя не может отнять того, что ты видишь, – если, разумеется, видишь.
Это состояние может испытывать каждый. Во – первых, его трудно разъяснить и объяснить, а во – вторых, оно растворено в других состояниях. Такое состояние может возникать в ситуации неразделенной любви и испытывая его, мы естественно, отождествляем это с любовью, не отделяем одно от другого. Но тем не менее то, о чем я говорю, есть в этом состоянии мысль , а не любовь. Или когда мы с такой же поразительной ясностью может видеть справедливость. Вот, например, мы можем видеть двух сцепившихся врагов, рвущих друг другу глотку и знать, что они братья родные, они же сами этого не знают, они продолжают борьбу, но ТЫ – знаешь, ТЫ – видишь. Выразить этого ты не можешь, так как не можешь свое сознание о том, какова природа действий наблюдаемого человека, навязать другому, если он сам себя не понимает. Он не понимает, что тот, кого он ненавидит, на самом деле его брат. Ты со стороны ясно видишь это положение, а он этого не видит. Трагически на твоих глазах сцепились обстоятельства вражды и ненависти, а ты видишь другой смысл этого с абсолютной ясностью, но недоказуемой. Ни сам себе не можешь доказать, ни этим сцепившимся в борьбе врагам – братьям. И более того, ты не можешь даже им помочь. Но поскольку ты видишь этот другой смысл – их братство, – то в этой способности умственно видеть нота радости все же присутствует. Что бы ни случилось, как бы они друг друга ни терзали, куда бы ни покатился мир, но увиденное знание истинной связи этих людей – их братство и есть то, что ты увидел и это называется мыслью или истиной, – это уже случилось, это необратимо, этого отнять нельзя, это было. И, может быть, именно с такой необратимой исполненностью и связана радость.
Значит радостью может быть такое чувство необратимой исполненности смысла. К этому приложимо слово "эстетика", поскольку последнее обязательно предполагает нечто чувственное. Эстетика неотделима от момента сенсуального, чувственного, даже если это просто слова. Ведь слово имеет свою чувственную материю, оно несет чувственную радость. А краска, цвет? Цвет, хотя и несет смысл, но одновременно радует и наши чувства. А мысль в этом плане находится в очень особом положении. Для разъяснения его необходимо говорить о совпадении.
Существуют и происходят очень странные совпадения. Об этом мне тоже придется говорить, чтобы у вас не было смущения, не возникало бы никакого комплекса неполноценности перед тем, что тема такая высокая, перед высоким делом мышления или сознания, смущения что вы – де ничтожны, а мысль великих мыслителей велика и вам до нее не достать. Пока я условно назову это коинциденцией, т. е. совпадением. Я хочу выразить здесь простую вещь: если вы что – либо помыслили, это существует даже если кто – то другой уже это говорил. Конечно, трудно определить критерием, что такое помысленное в отличие от непомысленного и пока придется остаться на интуитивном уровне. И это будет темным, пока мы не прокрутимся по всем ответвлениям этой темы. Так вот, если что – то помысленно вами – оно ваше, даже если это совпадает с мыслью другого человека, даже если это совпадет с мыслью великого мыслителя.
Прежде чем дальше говорить о совпадении, я должен заметить, что часто приходится задумываться, когда встречаешься с рассуждениями определенного рода. Например, с такими: люди очень любят иерархию – что выше, что ниже. Берут бесконечные проблемы: что выше – художественная истина или научная? Искусство или философия? Философия или наука? Чувства или мысль? и т. п. И сформировалось такое образное представление, что в общем – то самая высшая радость и самое высшее состояние человека – это состояние художественное. И это представление незаметно предполагает, что у художника, артиста, писателя всегда есть какая – то особая привилегия. Мне же всегда казалось, что у художника есть нечто , что помогает ему и этой помощью делает (условно конечно, я не пытаюсь устанавливать иерархию) его работу ниже работы мыслителя. Причина этого кроется в представлении, специфическом ощущении удачи или неудачи труда. Когда поэт пытается выразить какое – либо состояние в слове, даже если ему не удается до конца достичь ясности в том, что он испытывал, у него всегда есть промежуточный слой успеха, приносящий ему удовлетворение. Этот слой есть сама непосредственная чувственная материя стиха. Поэтому, если он не добился до конца по каким – то причинам полного успеха в слое мысли, поскольку стихотворение тоже мысль, он мог быть компенсирован успехом в промежуточных слоях, которые всегда присутствуют. Скажем, какая – либо аллитерация, уникально найденная, может искупить неполный успех в сути дела, т. е. в мысли. А тогда мне то прустовское рассуждение о поэтической радости как высшей радости не представляется верным, так как всегда есть вот этот, так сказать, клапан безопасности, выпускающий излишний пар творческой энергии. Напряжение духа, может быть, оказалось не вполне реализованным, но оно тем не менее принесло удовлетворение тем, что в промежуточном слое чувственной конструкции (а стих обязательно чувственная конструкция) есть успех. И можно хоть чему – то обрадоваться, даже тому, что не есть радость мысли. Следовательно, тем самым я уже отличаю радость мысли от какой – то другой радости, от эстетической радости. Вот в состоянии такого думания мне показалось, что я подумал нечто интересное, но оказалось, что люди уже думали так. В думах об этом я встретил эту же мысль у Евгения Баратынского.
Правда, на мой взгляд, он не совсем законно выделяет среди художников в отличие от живописца, скульптора или музыканта, у которых большую роль играет чувственная материя, именно художника слова и объявляет его мыслителем. Стихотворение у него так и называется, оно обращено к художнику слова. И на Баратынского распространяется то мое возражение, которое было обращено к Прусту. Ведь у слова тоже есть материя, а именно о материи идет речь у Баратынского. Стихотворение звучит так:
Резец, орган, кисть! Счастлив, кто влеком
К ним, чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.
Возможно вас, как и меня, пронзит это словосочетание:...пред мыслью (тобой), как пред нагим мечом... – но у слова, вопреки Баратынскому, все это еще есть. В случае же мысли никаких прикрас, никакой чувственной материи. Hie rotos, hie saita (здесь радость, здесь прыгай) и никакого промежуточного слоя. Если тебе не удалась мысль, тебе не удалось ничего. Нет ни аллитерации, ни редкой звонкой рифмы, ни удачно найденного и ясно переданного смутного настроения, какое бывает в магии поэзии, которое можно разыграть, даже не вполне пройдя все пути к мысли. А здесь, в этом стихотворении – "мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная", т. е. "бледнеет" красочность земной жизни, ее чувственные оттенки, обеспечивающие сами по себе возможность для самоудовлетворения. Но в нашем случае, поскольку мы собираемся радоваться мысли, так же как мы радуемся искусству, дана непосредственно сама мысль. Только ведь в радости мысли, в эстетике мысли есть нечто, выделяющее ее из всего другого: "как меч нагой перед тобой", голый меч; или все, или ничего.
Теперь если вернуться к замечанию о пронзительной ясности , то его содержание очень похоже на этот "нагой меч". Могущая быть источником радости пронзительная, сладко тоскливая ясность, при невозможности какого – либо действия, при полной неразрешимости наблюдаемого, возможно именно от того, что ты видишь это в обнаженном, нагом виде. Только вот обнажить это бывает трудно. В юности это состояние обнаженности приходит к нам, как молния, в одно мгновение, и так же быстро, как пришло, уходит. Не всякий научится потом, всей своей жизнью и тренированными мускулами ума расширять это мгновение ясности. Сначала оно даром дается. Но расширить и превратить мгновение в устойчивый источник светлой радости мысли – для этого нужен труд. Не всякий может встать на путь этого труда или просто даже решиться, потому что иногда страшно то, что там выступает в обнаженном виде. И тем труднее для нас обнажить то, перед чем уже нет никаких скидок, никаких компенсаций, никаких извинений, никакого алиби, тем труднее нам объясняться. Ведь мысль в любой данный момент всегда существует, уже дана в виде своих же собственных симулякров. Симулякр – по – латыни означает привидение или двойник, т. е. нечто подобное действительной вещи, но являющееся лишь привидением и заменяющее эту вещь, являющееся ее мертвой имитацией. Это значение перекрещивается и с латинским же словом "симуляторум", которое подчеркивает значение живой игры, что естественно, ибо мертвая имитация живого разыгрывается именно живым, т. е. человеком, и им оживляется.
Pale simulators – бледные симуляторы – тени вещей, которые мы видим. Применительно к нашему случаю – в любой данный момент, когда вы захотите мыслить, всегда эта мысль в виде подобия данной мысли уже существует. По той простой причине, что в любой данный момент в языке есть все слова. Наглядно это можно изобразить так, как если бы я на секунду встал с этого стула, посмотрел в другую сторону, потом повернулся, снопа захотел на свое место, а там уже сижу я. Такой же Я, какой уже помыслен как симулякр, уже мыслится другими в мире, он вокруг меня и вместо меня. Если вы обратите в этом отношении внимание на символ распятия Христа, то он среди многих других содержит и этот смысл. Задумаемся о личности Иисуса Христа. Кто он? Христос – человек, делающий чудеса. А если вы представите, поставите себя на место Христа: у вас есть какое – то живое, ваше собственное состояние, а оно уже существует в неживом виде, в ожидающих глазах окружающих вас людей, – они знают, что вы Христос, человек, творящий чудеса и т. д. Ведь в определенном отношении можно быть распятым и на образе самого себя. И в этом смысле в образе распятия Христа содержится все – таки ирония и насмешливый взгляд в адрес окружающих, поскольку Христос распят на том образе самого себя, каким его видят, каким он должен быть по представлениям верующих христиан.